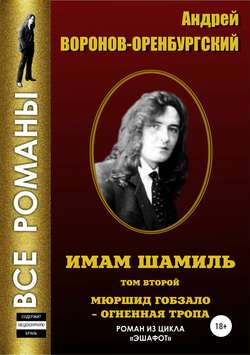Читать книгу Имам Шамиль. Том второй. Мюршид Гобзало – огненная тропа - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 6
ОглавлениеОтдохнувший ретивый конь, не зная устали, будто на крыльях нёс Гобзало. Хай, хай…Давным-давно за спиной остался Кахибский перевал…
Солнечный день сменила тьма, но Гобзало на сей раз ночёвки не делал. Вместе с тьмой нагрянула непогода в горы. Налёг мрак, скрыл всё. В небе: ни рогатого месяца, ни хороводов звёзд, ни Млечного Пути…Природа неистовствовала, выл и рыдал ветер…Но грозовой ливень прошёл стороной. Он бушевал над Гунибом, там – оглушительно грохотал гром, вспыхивали жуткие, набухшие гневом жилы молний, и земная твердь снова погружалась во мрак преисподней…
Торжество ночи подходило к концу. Прежних раскатов грома больше не было слышно, но стрелы молний ещё змеились по чугунному небу в стороне Кара_Койсу и Гуниба, освещая разгромленные бурей окрестности. Звери в горах и те отлёживались по своим логовам, не смея высунуться наружу. Яростные порывы ветра продолжали гнуть деревья, которые чёрной траурной полосой тянулись по горбатому взгорью. Мелководные ручьи и речушки вздулись и ревели теперь на порогах. Узловатые ветви карачей, чинар и дубов стонали, как люди на дыбе – жалобно, жутко, а листва, изнемогающая под натиском ветродуя, шелестела прерывисто и злобно, подобно гремучей змее. И от всего этого мятежного буйства природы веяло гнетущим ужасом грядущих испытаний, в которых слышались рыдания с коими, сливался обречённый бессильный женский крик…
Где-то в небесах сверкнула запоздалая молния, озарила затерянный в дебрях гор Унцукульский перевал. Как призрак, возник на нём всадник, закутанный по самые глаза в башлык и бурку. Мгновение и всадник исчез в зияющем мраке ущелья; земля ли разверзлась и поглотила его, или, обратившись в демона, он воспарил в небо под шорох чёрных крыльев, и улетел вместе с ветром.
* * *
Бледный рассвет поцеловал нахмуренный лоб Дагестана, смягчая безжалостное неистовство стихии. Небо сияло девственной чистотой, и прозрачное золото солнечных лучей играло на горных вершинах. Разорённая, растерзанная земля была грустна, но солнце всходило уверенно, властно, и словно шептало слова утешения: «Впереди хорошего – плохое, впереди плохого – хорошее. Злясь да печалясь, за счастье не ухватишься».
…Тропа сделала вилку. Направо – дорога в аул Ишичали. Налево – гора Киятль. «Хэй-я! Хок! Хок!» – Оскалив стиснутые зубы, Гобзало приподнял узду, и скакун наддал ходу. Гнедые конские уши были плотно и зло прижаты, шея, вытянутая, как на плаху, туго ритмически вздрагивала.
С каждой саженью он был ближе к сторожевой монументальной гончарно-красной горе Килатль. В голове одна мысль о соплеменниках: Магомед, Али, Гула, Тиручило…Волла-ги! Все они были молоды, но самолюбивы и храбры; все получили в наследство от отцов горячую вольную кровь и обычаи гор. Что греха таить? Шило в мешке не спрячешь. Тревожилось сердце мюршида о них…Столкнись они с белыми псами – мирно не разойтись – за теми и за другими кровь, а это горцев, пуще любой плети, бросает в бой!
«Скорее! Скорее! – стучало в висках. В какой-то момент Гобзало почудилось: он уже слышит шум, крики проклятий, боевые кличи и звон оружия!
…ЧIор не сбавляя скока, шумно врубился грудью в бурлящий, струящийся плотный холод. Тысячи бриллиантовых брызг ослепили мюршида, омыли запалённые скачкой лицо. Быстрая ледяная вода обожгла, хлынула в чувяки, ноговицы с чиразами, стиснула колени, плеснула ледовой плетью в пах. Но Гобзало лишь крепче стиснул зубы и вытянул плетью, взбиравшегося на крутой берег коня. Тот огласил дол надрывным ржанием и рванул по тропе с удвоенной силой.
Впереди показалась могучая седловина Килатля, в которой, как в колыбели дремали белые облака. Гобзало весь напрягся, как стальная пружина, под черкеской взбугрились мускулы, ноздри расширились и покраснели. Ай-е! Слава стоящим над ним Небесам! Он достиг цели. Ещё рывок и он крепко обнимет своих кунаков, поделится радостью, – рождением сына Танка!
* * *
Как только дагестанское солнце выкатилось из-за горы и заполнило светом долину, по которой продвигались войска, последние космы тумана истаяли на глазах, и зной липким взваром затопил всё окрест.
Из дневника гвардейского капитана В. И. Притулы:
«Дьявол! Мы плывём в каком-то аду! Солнце так огромно, так беспощадно, что кажется, мы все сдохнем здесь на радость врагу, шакалам и грифам. Зной стоит уже третий час к ряду. Не знаю сколько было этих чёртовых градусов в тени на термометре: сорок или все пятьдесят…Знаю только, что он был непрерывен, безнадежно ровен и глубок, как гиблый омут. И знаю ещё приказ командующего: «Переход в пятьдесят вёрст». Горы будто вымерли, ни ветерка; мелкая известковая пыль, подымаемая тысячами ног и копыт, стояла над нами и душила не хуже волосяной петли; она лезла нам в рот, ноздри и уши, пудрила волосы, так, что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с потом, она покрывала все лица грязевой коркой и превратила их в какую-то запеченную в золе кожуру.
Косматое страшное солнце нагревало сукно наших мундиров, невыносимо пекло головы сквозь кепи, фуражки и кивера; гудящие ноги чувствовали сквозь подошву раскалённый щебень, точно мы шли по горящим углям. Люди задыхались и продвигались в каком-то бреду. Вода была на исходе. Как на беду дагестанцы-проводники сообщили: «В сей местности, воды нет. Надо дойти до Аварского Койсу».
Чёрт в костёр! Колодцы крайне редки и воды в них – кот наплакал. Голова нашей колонны вычерпывала всю воду, и нам, осталось только глинистая жижа, скорее грязь, чем вода. Но когда не хватало и её, – люди падали. Бог мой! Два таких колодца были отравлены мюридами. В них плавали разбухшие , схваченные тленом трупы русских солдат. Одиннадцать отдали свои души от обезвоживания и солнечного удара. Царствие им Небесное.
…Сам иду тоже на «честном слове». Впрочем, сию пытку я выносил, сравнительно с другими, легко. Может быть, потому, что я родом из Бабажского уезда Черкесской губернии. Это неподалёку от Умани…
Моя маменька – Мария Андреевна (в девичестве Ляшова) – из кубанских казаков. Позже, по воле судьбы, маленькая Маша Ляшова попала с берегов Лабы на берега реки Куры в солнечный Тифлис, а там летний зной сродни Дагестанскому…Быть может, посему мне и было отчасти легче переносить эти адские танталовы муки. А возможно, тут дело в другом. Право, мне случалось замечать, что простые солдаты принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых «привилегированных классов», т.е. пошедших тянуть солдатскую лямку по убеждению и собственному желанию. Последние, те же люди, кои шли на войну сознательно, хотя физически страдали отнюдь, не менее, а может и больше солдат из простых людей, – вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и прочего, – но душевно были спокойнее и крепче. Их душевный мир не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым холодом или зноем, равно, как и смертельной усталостью.
…Как на духу: во мне никогда не было такого полного душевного спокойствия, как в тот день, когда я испытывал невзгоды и вёл под пули солдат убивать людей. Дико и странно может показаться всё это, но я пишу искренне, и полагаю, правду.
Как бы то ни было, когда иные падали на дороге, я всё же помнил ещё себя и отдавал приказ помочь несчастным. Ещё в Чечне я запасся огромною тыквенной кубышкою, в оную входило до пяти бутылок! С армейской фляжкой не сравнить…На марше мне пришлось не раз наполнять её водой; половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Тяжко видеть: идёт человек, перемогается, но убийственная жара берёт своё; ноги подгибаются, тело качается, как у пьяного; сквозь коросту грязи и пыли видно, как багровеет, затем чугунеет лицо; окостеневшая рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но приходит срок и человек без памяти валиться в пыль на камни. «Дневальны-ый!» – кричат хриплые голоса обер-офицеров. Обязанность дневальных – оттащить упавших в сторону и помочь им; но и сам дневальный – не лучше. Канавы по сторонам дороги усеяны людьми; то тут, то там валяются трупы издохших вьючных лошадей. Рядом идёт молодой солдат-первогодок Ватрушин; слышу шелест молитвы, что срывается с его спёкшихся губ: «…Спаси и помилуй…Не оставь меня Царица Небесная, ни убитым, ни раненым, ни сарычам, ни серым волкам на растерзание…»
…Как командир, время от времени, задерживаю шаг, оглядываю вверенную мне роты. Жалкое зрелище.
Подпоручик Комаров, прапорщик Лесковский, поручик Лазарев – мои взводные и моя опора, – идут со своими стрелками и хотя по всему страдают зело, но крепятся. Молодцы господа-офицеры! Испепеляющая жара произвела на них действие сообразно с их характерами, да только в обратную сторону: красавец Лесковский молчит и только изредка рубит команды: «Взво-од! Держим стро-ой! Левой! Левой! Ир-раз, два, три!..»; Лёнька Комар, как всегда…С лихорадкой на одной ноге, себе не изменяет: весел чертяка, собачится с унтером Шандыбиным и резонерствует:
– Ишь, валиться новгородская каланча! Петров, сволочь! Шаг держать…Штыком заденешь рожу товарищу…Чё-орт! – яростно кричит он, отклоняясь от штыка упавшего Петрова, который едва не попал ему остриём в глаз. – Дневальный! Мать твою!..Живей, каналья, булками шевели!… Ну , я тебе…испекусь!
Как манну небесную, ждали вечера. Но солнце было ещё высоко, а до Аварского Койсу далеко. Раскалённый воздух дрожал, и беззвучно, словно готовые потечь, дрожали скалы; и дальше ряды пехоты, орудия и лошади, казалось, отделились от тверди и беззвучно плавились, студенисто колыхались – точно не живые то были люди, а войско бесплотных теней…Вокруг никаких горцев, только красные скалы, горячий воздух, да чёртовы стервятники в небе, как могильные метки: помни о смерти урус!…
* * *
И вот случилось! Святый Боже! Дошли!!
Студёные чистые воды Аварского Койсу, о коих были все наши чаянья, неистощимые мольбы, омыли нашу грешную плоть. Бог весть, откуда, только силы взялись! Полки, батальоны, роты за ротой, будто в атаку, на штурм, – бросились к драгоценной реке – весь бесконечный день, вода нам всем только грезилась!..
Каскады холодных живительных брызг обожгли наши черные, лоснящиеся от грязи и пота лица. Рассыпаясь, струилась, ласкалась в руках «живая вода»; сверкали глаза и зубы, мелькали колени и крепкие спины, мускулистые груди и руки, лодыжки и плечи; разминая уставшие члены, стонала, кряхтела, рыдала от счастья и благодати, ожившая русская плоть…
Аварское Койсу вышла из берегов от огромных заторов из человеческих тел; бурые, мутные воды от грязи, песка и пыли надолго скрывали многоверстную пойму от глаз.
* * *
…Гобзало оцепенел от увиденного. Он был почти не в состоянии смотреть прямо перед собой. Голова его напоминала наковальню в кузнеце, по которой с грохотом ударял молот. Где-то в центре мозга пульсировало багровое угасающее эхо голоса, который пару верст назад прогрохотал в его сознании: «ТалихI гьечIольи! Беда! Беда!» Воллай лазун! Он услышал этот голос совершенно чётко, до потрясения.
Нет, не сразу он понял, вернее не захотел понять, что произошло здесь у отрогов Килатля. Вдруг схватился рукой за горло, словно ему накинули на шею петлю. Потом сорвал с головы папаху и провёл ею по сырому лбу. От подножия горы неуловимо тянуло гарью, дымом, сожжённым порохом. Биллай лазун! Ему был хорошо знаком этот удушливый, прогорклый запах – так смердели спалённые аулы, которые попадали под железный каблук русского сапога. Так пахла смерть. «Дада-а-ай! Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного – нет!» – эта мысль, как кипяток, ударила из сердца, шибанула в голову, в заледенелые жилы; всё в нём мгновенно вскипело, взбурлило жаждой мщения. Но мужчинам не пристало теряться в горе. Он спрыгнул с коня, стал изучать следы. Страшные опасения подтвердились – враг истребил едва ли не всех мюридов его отряда. Гобзало казалось, мир рухнул под ним. Тысячи мыслей, одна, мрачней другой, вихрем промчались в голове; точно безумный схватился за кинжал. С диким блеском в глазах, с обнажённым клинком, он жаждал сразиться с неведомым врагом – быть убитым! Убитым той же рукой, что оборвала жизни его верных мюридов. Но не было тех, кто устроил эту бойню, – лишь разбросанные вдали друг от друга трупы горцев, да убитых коней.
Гобзало, теряя рассудок, вскочил на храпевшего ЧIора, – отчаянье когтило сердце. Он всё понял. Как не понять? Предчувствие не подвело. «Как же мне быть? Пропал я! Имам не прощает таких ошибок…– и вдруг мелькнула всполохом злобная мысль. – Одноглазый Магомед ответит за всё!» И он, одержимый, в приступе бешенства принялся было искать его глазами. Но бешенство быстро прошло, и встал вопрос: «Почему виноват именно он? Уо! Пристрастные глаза слепы. Казна мужчины – верное слово, светоч мужчины его глаза. Зачем плохо подумал о кунаке? Бурка хороша новая, а друг – старый.
* * *
Гобзало ехал шагом по запятнанной кровью земле. По своей земле ехал, по дагестанской, – запятнанной кровью горцев.
«Какая мёртвая пустыня…Ни человека, ни лошади, ни собаки…»
Тёмная шевелившаяся масса впереди привлекла его взор. Жеребец фыркнул, наторочил уши. Мюршид подъехал ближе. Несколько нахохлившихся лысоголовых грифов теснились пыльным ворохом перьев, подскакивали на жилистых, когтистых лапах, щёлкали огромными клювами над добычей, лежавшей на обочине ослепительно залитой солнцем дороги, по которой курилась пыль.
Гобзало взмахнул плетью. Тяжело треща огромными траурными крыльями, пружиня на лапах, стервятники неохотно взлетели и опустились невдалеке на брюхатый труп, ощеренной лошади. Обочь свежей дорожной колеи, оставленной солдатскими фургонами, в странном положении, словно в судорожном порыве лежал старик в изодранном старом бешмете, а рядом с ним два совсем молодых джигита. Падальщики уже успели обезобразить их лица, ещё хранившие мужественные черты; полчище звеневших мух кружилось чёрным облаком над ними.
Мюршид сцепил зубы, задержал дыхание, с трудом, но он узнал этого старика и его сыновей. Ай-е! все они были гумбетовцы из Ишичали – Люди Солнечной Стороны. Старик – чабан Юсуф по прозвищу Душа Ножа, а рядом с ним сыновья Гани и Мусса, зарубленные казаками. Его белые, разметавшиеся, словно страницы жизни горцев, редкие пряди бороды, лениво колыхал суховей; местами они подмокли, став красно-бурыми, как и его рассеченная шашкой, впалая грудь. Сколько было этому горцу, Гобзало не знал, хотя под янтарными лучами полуденного солнца его преклонный, уважаемый возраст читался отчётливо. Овраги морщин были глубоки и напоминали Гобзало миниатюрную копию здешних мест. Рядом с обветренной временем кожей, старый, видавший виды хурджин мюршида смотрелся почти новым. Но более всего Гобзало поразили глаза старика: застывшие, устремлённые в родное чистое синее небо…
Они были, как два осколка некогда целого красивого зеркала, полные непередаваемой боли, отчаянья и расстрелянной скорби…
– Будьте вы прокляты! – озираясь по сторонам, мертвым голосом прохрипел Гобзало. Ярость с новой силой вгрызлась в его воспаленный мозг, в котором гудел и кружился вихрь отчаянья. На окаменевшем лице его блестели капли холодного пота.
Но не только трупы и тлен увидел его взгляд. Волла-ги! Точно отставший от волчьей стаи вожак, – он долго отыскивал нужный след и нашёл его. Это был след горских коней. След этот был прям и стремителен. Как полёт стрел, пущенных в цель. Он уходил на Кара-Койсу, туда, куда стремились войска гяуров, туда, где в заоблачную высь возносился непокорной главою Гуниб, где укрепился Шамиль, где со дня на день должна была бесповоротно решиться судьба Кавказа.
– Хэй – яа!Аллах Акбар! Мёртвым – мёртвое, живым – живое.
Весь комок злости и ненависти, – Гобзало, сорвал с места и погнал, что было силы своего скакуна по этому следу…
* * *
Уже удлинились тени, когда Гобзало оказался у каменного голенища Анцухского ущелья. Призвав на помощь Аллаха, он въехал в теснину между двумя челюстями скал, будто в раскинутую пасть дракона, поглотившего тропу.
Тяжёлый лик солнца скользил за чадрой дымчатых облаков, ровно давал отдых своим глазам, уставшим взирать на зло и неправедность мира. В резко потемневшем воздухе ущелья появилась зябкость и становилась всё ощутимее. Ветер шипел в каменных трещинах и зубцах стен, словно человек, цедивший слова, сквозь выбитые зубы.
…Гобзало, ехавшему по дну теснины, показалось на сверхъестественное ледяное мгновение, что он слышит собственное имя, что кто-то зовёт его из-за сгустившейся завесы сумрака, не то хочет о чём-то предостеречь…
Хай, хай…После великого нашествия арабов-завоевателей, магометанство, кое приняли дагестанцы, несомненно, укрепило в их верованиях понятия об одном Боге…О бессмертии души и загробной жизни…Но оно так и не смогло вытравить – истребить тысячелетнее поклонение горцев к древним святыням, почитание седых культов и верований далёких предков.
…Вот и теперь, охваченный суеверной тревогой, мюршид Гобзало не мог освободиться от гнетущего чувства: за ним кто-то пристально наблюдает. Напряжённо смотрит прямо на него или…сквозь него…Иай! На его лице вдруг застыла кривая улыбка, в суженых глазах мелькнуло ошеломление…Словно за свою насмешку, над верованиями пращуров, он получил пощёчину, нанесённую внезапно возникшей из темноты рукой.
Уф, Алла! В пальцах, державших узду, он ощутил вдруг нестерпимое жжение. Во внутреннем голосе его послышалась дроглая нота…Пересохшие губы поневоле шептали обрывки древних заклинаний, которые (как убеждали старики Урады) могли умиротворить козни и гнев потревоженных горных духов. Уж кто- кто, а седые мудрецы ведали: духи не любят, когда над ними смеются иль придают сомнениям их присутствие в этом мире…
Он попытался расслабить онемевшие пальцы и сразу почувствовал холод, пробежавший между лопаток по позвоночнику. Вай-ме! Точно такой же холод он ощутил, когда в детстве на аульском мосту впервые столкнулся с жрецом Гидатля и взглянул в его бездонно-чёрные немигающие, как у гюрзы глаза – Воллай лазун! Давным-давно это было…
Чу! Мюршид Гобзало услышал глухой конский топот. Весь напряжение, он придержал ЧIора, прислушался, слегка подавшись вперёд. Вдруг выпрямился в седле.
– Уо! Кони подкованы русской подковой! Ца-ца-ца-ца-а! Должно быть, казаки! – чужим голосом скрепил он.
И тут же до его слуха донеслась приглушённая песня:
Просвистела пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву чёрну кровью обагрю…
Гобзало слегка стрёкнул коня пятками и поскакал обратно в надежде, что укроется в скалах и переждёт казачий разъезд.
Он мчался во весь опор. Хо! Казаки его не заметили, – погони не было.
Урадинец пронёсся узким ущельем; ещё чуть, и он будет свободен, как ветер.
Вдруг впереди загремела булыжная осыпь и грозный крик:
Кто едет? Сто-ой, холера! Убью!
Сердце бухнуло по рёбрам. Гобзало натянул повод. Конь захрапел, кусая зубами грызло, попятился назад, сразу почуяв опасность.
– Стой, кто едет! – снова зло гаркнуло из темноты, и тотчас срывая птиц с гнёзд, раскатисто грянул выстрел. Второй не заставил себя ждать. Свинцовая пуля с визгом отколола кусок базальта от уступа, за которым притаился мюршид. Своды ущелья вновь загудели неистовой перекличкой, похожей на уханье демонов.
Билла-ги! Горец круто повернул коня, понёсся вспять, но не успел до спасительной развилки…Узрел впереди казаков, рвущихся на грохот выстрелов.
Вах! Он очутился в западне – капкан захлопнулся, тропа ущелья была перерезана с обеих сторон.
Беглец конвульсивно смахнул пот со лба. Дрожь напряжения лихорадила плечи. Но Гобзало испытанный воин. Урадинский волк. С детства он был привычен к опасностям, риску, – не растерялся. Отважный не спрашивает: высока ли скала? У самого края дороги теснились скатившиеся со скал огромные валуны. Он быстро свернул с тропы и притаился за ними. Конь и человек замерли, оцепенели. Уо! Даже при ярком свете их трудно было заметить. Всадник всецело доверился чутью своего гривастого друга. Прижавшись крупом к скале, преданный жеребец стоял смирно. В его настороженном лиловом глазе отражалась фигура застывшего в седле мрачного воина: в косматой папахе, черкеске, с кинжалом на поясе и шашкой в зелёных сафьяновых ножнах; в дымчатом призрачном свете и всадник, и конь казались единым целым, вылитым из серебра.
…Терские казаки, (он узнал их по цвету лампас) радуясь безопасной безделке, с лихим посвистом, ветром пронеслись мимо. На медном лице горца качнулась ухмылка презрения. Его даже обозлила, будто стегнула плетью, их беспечная бестолковость. «Летят куда-то, как индюки! Э-э, сорока мнит себя соколом, а каша – пловом».
И тут вновь зло, и ярость за своих погибших мюридов, заклокотали в нём, как вода в котле. «Врёшь, собака! Не уйдёшь без своей собачьей памятной метки!» – процедил он. Мгновенно вскинул штуцер, прицелился и спустил курок. Меткий свинец срезал крупного казака в белой, заломленной назад папахе, выбил из седла, подняв среди остальных сумятицу. Его увидали, заулюлюкали; стукнули дробью выстрелов. Но Гобзало, ровно ветром сдуло. Был – и нету! Пустынные стояли валуны, по которым зло щёлкнули пули.
* * *
…Ветер хлопающим пузырём надул на спине Гобзало черкеску; плетью хлестал в лицо, слёзы застили глаза, в ушах режущий свист…
Разъярённые казаки кинулись ему вдогон, но верный, боевой конь, разметав длинную гриву, стремительно мчал своего седока, уносил прочь от преследователей.
Он оглянулся только тогда, когда проскакал не меньше версты.
Талла-ги! Всё шло, как надо! ЧIор, будто понимая ободряющие слова хозяина, напрягал все свои силы. Разрыв между горцем и казаками рос с каждой минутой. Как вдруг!…Хужа Алла! Конь быстр, как ветер. Но пуля-дура, ещё быстрей…на то, она и пуля! Скакун под мюршидом, точно взбесился, яро лягнул воздух, взвился свечой и со всего маху рухнул на бок, накрепко подмяв под себя ногу хозяина, не успевшего вырвать её из узкого стремени.
– ЧIор, брат!! – забыв о погоне, в отчаянье зарычал Гобзало. Он обнимал своего дорогого коня, тщетно пытаясь облегчить его страдания; напрасно шептал в его напряжённое ухо заветные слова.
Хо!..Гобзало снова очутился в западне, и на сей раз, спасения из неё не было. Он яростно попробовал было высвободить ногу, но всё большая чугунная тяжесть наваливалась на него. Урадинец затравленно бросил взгляд на утробно храпевшего коня. Его били предсмертные судороги. Выпученный с агатовым блеском глаз стремительно наливался кровью, как слива гнилью; из раздутых ноздрей потоком текла кровь. Уходящая жизнь в последний раз сотрясала его напряжённое тело…Гобзало, как раненный зверь зарычал от боли и обиды. Позади яростный топот копыт, злорадные крики и свист – погоня приближалась, и не было больше надежды на жизнь, на спасение. Рядом с придорожным камнем сочно и звонко поцеловалась пуля. Как злобные осы, жужжащее крошево посекло лицо.
…Гобзало лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный густой запах крови, и оглушительный грохот подков.
Изнутри нахлынула дикая, душу выворачивающая тошнота. Он чувствовал кровью и плотью; настал час его гибели.
О, Алла!..Вся прежняя жизнь взвихрилась и промелькнула перед ним, как это бывает в минуты смертельной опасности.
– Э-эй-ваа-а!..Как бесславно я погибаю! – глухо, как волк, попавший в капкан, выл и рычал он. – Пр-рости меня Имам, что не с тобой…Пр-ростите и вы, братья, что не сумел я отмстить за вас!
Встряхнув головой, и рывком приподнявшись на локте, он увидел перед собой: пенистую лошадиную морду, коричневую черкеску с густыми рядами газырей, ноздрятое дуло винтовки и налитые злостью глаза на буром от загара лице.
– Тю-ю! Не дёргайся гад! Зашибу-у! – заорал казак и свинцовый шрам, на его облупившейся щеке, накипел жаром, став рдяным и спелым, как гребень петуха.
В это мгновение подоспевшие казаки осадили над ним коней, подняв клубы пыли. Живо, держа винтовки наготове, взяли в оцеп.
Тот был, точь в точь подстреленный беркут. Весь забрызганный кровью своего коня, с оскаленными зубами в бороде и горящими глазами, он дичало, озирался по сторонам, опираясь на левую руку, в правой держал кинжал, готовясь дорого продать свою жизнь. В его мрачном взгляде страха не было, одна ненависть и презрение.
– Э-ээй! Дэлль мостугай! – свирепо прорычал он. – Чиво ждёш-ш. собака? Убэй мина, гяур-р! Вах! Мой рэзал бы твой глотка, как баран, рука нэ дрогнул…Килянусс Аллахом!
Казаки колебались секунду другую: убить, не убить? Один из них раскострил трубку, колупнул носком ялового сапога щебень.
– Как думаш, Петро, он чьих кровей будет? Даргинец? Капучин? Андиец, может? Ят в изних племенах небельмеса…
– Всё мимо. Авар! Я их гадюк знаю! Точно тебе гутарю, Семён.
Верь, я пороху нанюхался в Дагестане не с твоё! Знаю их упырей и по крою, и по говну ихнему. Ишь, матёрый волчара! Ему и жить то паскуде пустяк, а он всё одно…за кинжал схватился.
– Э-ээй, шакалы! Билят, сучка ваш мат! – жаждая одного – быстрой смерти, харкал страшные оскорбления, Гобзало снова скрежитал зубами; в бессильной злобе сжимая рукоять кинжала. – Убэй, урус! Стрэляй, заруби мой, если твой смэлый. Если мужчина!
– Это он – стервец, Лавруху кончал! С-сука! – лязгнул затвором крепкоплечий рыжеусый казак, померцал зелёными, олютевшими враз глазами, и хищно оголяя плотные клыкастые зубы, прохрипел: – Анну дай, братцы, я ему мозги выплясну! Мать нашу ишо, пёсья лодыга, поминать будя! Уж эйтот коршуняга в досталь наклевался казацким мясом! Напился кровушки гад!
– Погодь, Проха! – густобровый хорунжий Первухин заступил путь рыжеусому. Цепко прирос корявыми пальцами к стволу винторя и рявкнул: – Шойт рот раззявил! Исшо рано тебе офицерству свою казать…Сперва выслужись, а уж потом гавкай. Не ор-ри! Плевать мне на твою мнению. Дурра-а! Кубыть не зришь, каков зверь нам попался?! Да супо-онь, ты! Глянь, один конь чаво стоить!
– Да-аа конь и впрямь шибко добёр под ём был…– с сожалением протянул кто-то за спиной Прохора.
– Сбруя-то, сбруя-а! – воткнул другой.
– А седло? Стремена?! Эт сколько же стоит тако добро? – летели наперебой возбуждённые голоса.
– Жаль, что Семён не его волка пулей срезал, а коника. Не конь, а тигра! Такого только пулей и догнать! Нечета нашим холстомерам.
– Замолчь! С этим добром понятно, гнить не оставим, – звонко вгоняя клинок в ножны, усмехнулся Семён Подпруга. – А сым шо ж прикажешь, кум?..
Гобзало будто шилом ткнули: медные пальцы крепче сковали рукоять кинжала, глаза полыхнули звериным огнём. Перед ним стояла высокая. Крепкая стена из усталых суровых лиц, папах и черкесок. Он впитал в себя серые колючие глаза, ржавую щетину на щеках, мелкую злобную дрожь около рта хорунжего и готов был пронзить кинжалом любого кто первым наброситься на него, как вдруг!…
Сокрушительный удар со спины едва не выбил из него дух. Били тяжёлым прикладом, с плеча, но так, чтоб остался «в живее».
Верный кинжал отлетел под копыта коней. Гобзало бешено рвался, рычал, пытался прокусить зубами чей-то сапог…Харкал кровью, хватался за голову, прижимал к багровому лицу широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь привычный мир, безбрежный, желанный, но враждебный и жестокий теперь дыбится, рвётся из-под ног и вот, вот растопчет, превратив его в безобразную, лишённую всякого смысла бордовую развалину из костей и вздутого мяса…
Он ещё помнил, как два казака силой вырвали его из-под коня, обезоружили и так туго связали ему руки узкими сыромятными ремнями, что кровь выступила брусничными каплями из-под кожи. Гобзало невыносимо страдал, злобно щёлкал зубами, кусал разбитые губы, сдерживая стоны.
– Затягивайте иш-шо туже! – сорвано каркнул хорунжий. – Шибче! Шибче! Сказано вам…
– Иай, шакалы! Сывязаный бит, вот вэс твой храбраст, гяур-р! – с задранной на спину головой, с выпуклым клокочущим горлом, хрипел Гобзало. – Затягивай…Затя-ги-вай, туже, шакалы…Мой всё адын пащ-щада нэ запросит. А-аа-ааай…свыначый кр-ров!
– Заставим! – весело хахакнул Семён Подпруга и зло толкнул ему в зубы, как псу нагайку. – Ишо не у таких волчар шкуры дубили!
* * *
Дальнейшее Гобзало не помнил. Минуту он ещё ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, силился вернуть сознание, переламывал себя – и не переломил.
Воллай лазун! Замкнулась над ним чёрно-алая, набухшая немотой пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный бирюзою клочок да скрещивались штыки и кинжалы молний.
Казаки, обобрав мюршида до нитки, сняв с его околевшего ЧIора всё кроме копыт и шкуры, привязали пленника верёвкой к коню хорунжего и тронулись было в путь. Но аварец идти не мог, и никакими угрозами невозможно было заставить его безжизненное тело подняться и бежать за конём.
Ан, охота пуще неволи! Старшему в отряде хорунжию Первухину – вынь да положь, – зело, как хотелось выслужиться, доставить знатного пленника живым пред грозные очи атамана Нехлудова.
Решено – сделано. Горца взвалили на коня позади застрелянного им казака Лаврухи.
– Вот и ладныть, братцы! – довольно крякнул Первухин. Посчитались с гололобым баш на баш. К-хаа! Выбили волку кровя из сопелки! Не боись, робяты…Кровь за кровь! Атаман энтова шайтана живым не выпустит. От хера уши! Ну, будя воду толочь. Воротать до своих время! – Он дёрнул повод. – Тю-ю! Балахвост тугомордый! Айда! Пош-шёл, будь ты неладен…