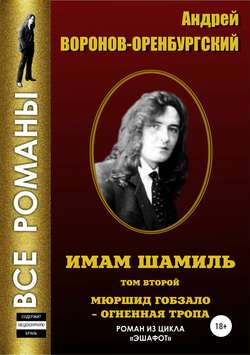Читать книгу Имам Шамиль. Том второй. Мюршид Гобзало – огненная тропа - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 5
ОглавлениеГуниб – гранитная твердыня, заоблачное орлиное гнездо горного Дагестана.
Воллай лазун! Гунибское плато, как последний рубеж Имамата в битве с урусами, Имам Шамиль имел давно и берёг его в сердце, как чёрный алмаз, как волшебный кристалл, – способный вызволить его из железных когтей судьбы.
«Ещё восемнадцать лет назад – 16 ноября 1841 года генерал Клюки фон Клюгенау в письме генералу Головину Е.А. сообщал: «Ваше высокопревосходительство…Гунибцы, известные бестии, охотно приняли предложение коварного неприятеля. Они согласились дозволить мюридам укрепить свой аул, обеспечить его предостаточным запасом зерна, транспорты которого уже начали прибывать на сию вершину…»3
В том же 1841 году воины Аллаха, по приказу наибов Шамиля, производили на Гунибском плато серьёзные укрепительные работы, завезли туда весьма изрядный запас продовольствия и оружия.
А вот, что спустя годы писал командующий князь Барятинский А.И. в докладе на имя Его Величества Государя-Императора Александра II перед штурмом Гуниба: «…Не ограничиваясь природной крепостью Гуниба, прозорливый Шамиль употребил решительно все возможные средства – сделать его совершенно неприступным; он подорвал все скалы порохом, куда представлялась хоть какая-то малейшая возможность добраться; он заградил все тропы, ведущие на Гуниб от Кара-Койсу, Ругуджи и Хиндаха толстыми стенами, боевыми башнями, двух и трёхъярусными оборонительными постройками, везде заготовил огромные кучи камней для скатывания на атакующих».4
Хай, хай…К тому сроку5, на горе Гунибе хоронился невеликий аул шесть-семь сотен жителей; несколько хуторов, две мельницы, мечеть, оружейная мастерская, да пороховая готовальня.
По воле Творца неприступный Гуниб-Даг расправил свои крутые плечи в
самом центре древнего Дагестана, а потому. Как не раз в том убеждались завоеватели, имел уникальное стратегическое значение. Эта циклопических размеров цитадель, сложенная из гранита, базальта и туфа, имела вид обезглавленной пирамиды, коя, была отгорожена от всего мира отвесными и глубочайшими безднами с седла плато на десятки и сотни вёрст, как на ладони, просматривалась большая часть горной страны. Отсюда без труда можно было контролировать положительно все пути, ведущие к нему. С трёх сторон его защищали глубокие каньоны двух полноводных, бурливых рек: Кара Койсу и Аварское Койсу.
Биллай лазун! Это была естественная крепость площадью более ста вёрст с юга на север и с запада на восток, защищённая со всех сторон двумя ярусами гигантских базальтовых глыб, которые, как гласит одна из древних легенд, были принесены сюда исполинами дэвами, не то крылатыми демонами по воле Создателя, ещё миллионы лет назад.
Аллага шекур…Когда младший сын Имама Магомед-Шапи взялся укреплять и готовить гору к обороне, из-за нехватки людей и средств были проведены только простейшие укрепительные работы на самых важных и судьбоносных рубежах. Даже для того, чтобы передать то или иное распоряжение, не хватало людей! Посты, расположенные на самых опасных участках не имели связи между собой.
Что ж, верно сказано: у победителя – день, у побеждённого – ночь. Как верно и то: побеждённый ненасытен в борьбе. А мужество и стойкость воина узнаются, когда наступает срок испытаний.
* * *
Хай, хай…Мало, крайне мало было защитников Гуниба…Но и маленьким ключом можно открыть большой, окованный железом сундук. В те времена у Шамиля как-то спросили:
– Скажи, Имам, как могло случиться, что крохотный полуголодный Дагестан веками был способен сопротивляться могущественным государствам и устоять против них? Как мог он полвека биться со всесильным Белым Царём?
В безмерно уставших глазах Имама, казалось, отразился раскалённый перламутр былых и грядущих пожаров. В медных пальцах неспешно щёлкнуло яшмовое зерно чёток, подведя черту затянувшейся паузе. После чего, Шамиль тихо, но твёрдо изрёк, убеждая собравшихся воинов и мудрецов, в своей выстраданной мысли:
– Дагестан никогда бы не выдержал такой борьбы, если бы в груди его не горело пламя любви и ненависти. Этот огонь и творил чудеса и совершал подвиги. Сей огонь и есть душа Дагестана, то есть сам Дагестан, – его плоть и кровь.
Я сам кто такой? – с усмешкой продолжал великий Шамиль, снова щёлкая каменным зерном, – Сын садовника Доного из обычного горского аула Гимры. Уо! Я не выше ростом и не шире в плечах, чем другие люди. В детстве был хилым и слабым волчонком. Глядя на меня, взрослые качали головами и говорили родителям, что долго не протяну. Сначала я носил имя Али. Но когда я хворал, это имя заменили Шамилем, надеясь, что вместе со старым именем уйдёт моя болезнь, а вместе с нею и злые, нечистые духи, что кружились над моей колыбелью. Шамиль – странное и чужое, для наших мест, имя…Но я выжил и рос с ним…Я не видел большого мира. Не воспитывался в больших городах. Я не был обладателем большого добра и богатства. Учился я в медресе в своём ауле…Но всегда помнил из какого я рода. Приёмы – ничто, воля – всё. Сила воли, которая и есть наш горский дух – наш огонь. Воллай лазун! Однажды он просыпается в каждом. Проснулся и во мне…Давно это было, но я не забываю, да и не хочу забывать. В ту минуту я и стал Шамилем, которого знаете вы…Главное сберечь этот огонь…Не дать угаснуть ему.
* * *
И всё же, какой бы ни был огонь в груди,. .но одна ладонь шуму не сделает. Трудно, невыносимо трудно было Имаму и его соратникам. Искренне глубоко ужасались за их судьбу те, кто по злой воле изменников остался глух к призывам Пророка. Те, кто променял честь и имя, на кусок баранины и хинкал. Саблю на ложку, а коня на осла.
Волла-ги! Положение усугублялось ещё и тем, что теперь Шамиль не получал сведений о состоянии дел в других районах Дагестана, не имел достаточного запаса провианта и боеприпасов. Посередине плато, в большой ложбине, где протекала речка, располагался сам аул Гуниб.
Под руководством сына Имама Магомеда-Шапи на крутые вершины скальных уступов мюриды и гунибцы натаскали целые груды огромных камней и валунов. А крепкий камень, брошенный с высоты, словно пушечное ядро, ударившись о скалы, разлеталось на сотни жужжащих кусков, причиняя убойный урон противнику.
Билла-ги! На Гуниб вели несколько пешеходных троп – из Хидаха, Ругуджи и от реки Кара-Койсу. По приказу Имама все они были разрушены. Каменные завалы, стены, башни и бойницы встали на проходах. Повелитель правоверных считал природную крепость совершенно неприступной.
…Вот и теперь, обходя с сыновьями укреплённые рубежи, он силился убедить себя в своей недосягаемости, достаточно сильным, чтобы дать отпор любому врагу. Но на душе продолжали скрести кошки, а на память приходила старая даргинская поговорка: «Козёл девять раз проскочил в Мекку, а на десятый раз угодил к волку в пасть».
Угрюмый, задумчивый, перетянутый кожаным поясом, на котором висели кинжал и изогнутая сабля в чёрных серебряных ножнах, Шамиль стоял на третьем этаже боевой башни. Старая папаха с простой белой чалмой, потёртая на швах черкеска с густыми и длинными рядами газырей, неподвижное тёмное, как седельная кожа, лицо, с густой крепко седеющей бородой и полузакрытые глаза – хо! – как это всё было необычно и непохоже на яркую пышность затканных золотом и сверкавших драгоценными камнями других повелителей и владык Востока.
Окружённый телохранителями – муртазеками, Шамиль спустился по ступеням, покинул башню. Старики – советники в гранатовых и зелёных чалмах теснились у входа перед ним и расширенными глазами всматривались в неподвижное суровое лицо Имама, ожидая, от ещё недавно всесильного, страшного истребителя гяуров и непокорных народов Кавказа, или милости, или великого гнева.
Шамиль поднял палец и направил его на одного из них:
– Ты носишь большую чалму, мудрец. Много дорогой ткани ушло на неё, не так ли? Должно быть, и мозгов под этой чалмой меньше? Скажи мне, мудрец, дважды совершивший хадж в священную Мекку, что через два или три солнца ждёт нас всех? Жизнь или смерть? Победа или поражение?
У башни взялась тишина. Жители Гуниба, оказавшиеся поблизости, взобрались на плоские крыши, со страхом и любопытством наблюдали за происходившим. Казалось, полная тишина охватила гунибское плато. Одни только рослые кавказские овчары с косматой шерстью и злобными глазами перекликались хрипатым, яростным лаем, словно чуяли близкую кровь.
– Ну, что же ты, Хаджияв из Караха? Тебе нечего бояться. Тебя нет в моём списке…
– Будь я в твоём списке, Повелитель, – старец в зелёной чалме, приложил руку к груди. – И будь это на благо Священного Имамата, клянусь, я бы с радостью умер.
– Да, да…верю тебе. – Шамиль, прищурив глаз. Смерил взглядом высокого и прямого, как минарет мечети, старика, и напомнил:
– Я задал вопрос, не молчи! Чего боишься? Сабля ножны не режет.
Растерянность и беспокойство отразились в выцветших глазах почтенного старца. Сложив пергаментные руки на животе, как и другие советники, освобождённые своей учёностью и почётом от обязанности падать ниц перед Повелителем, он мучительно держал паузу, боясь навлечь на себя гнев владыки. Ведь, слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
Ответь же кто-нибудь? – Шамиль скрестил на груди руки. В его сухом пристальном взгляде дрожали огневые светлячки. – Может. Ты? – он скользнул взглядом по морщинистому лицу учёного-мухаджира из аула Кабир Кюринского общества. – Или ты? – Имам перевёл беглый взор на мудреца Галбаца из Караты. – А может, ты. Ибрагим?
Но благочинно молчали убелённые сединами мухаджиры. Каждый из них кожей чувствовал скрытое раздражение в голосе владыки. Но каждый и задал вопрос себе: «Что лучше сказать: горькую правду или сладкую ложь? О,, Алла…уж лучше быть немым, как рыба…Невысказанному слову ты господин, высказал – ты его раб».
Имам покачал головой и начал наматывать на палец с изумрудным перстнем жесткий завиток бороды.
– Бисмиллагьи ррахIмани ррахим… – Шамиль прошептал молитву, провёл ладонями по лицу и бороде. Дождался, когда тоже сделают его мухаджиры, и лишь тогда, сказал накипевшее:
– Странно и подозрительно ваше молчание…Или вам изменила смелость смотреть правде в глаза…Или вы стали жить правилом: плюнь вверх – усы пачкаются, вниз борода? А может, вы от меня что-то скрываете? Он снова оглядел их с ног до головы, как лесоруб оглядывает дерево. Кое нужно срубить, ищет на крепком стволе место, куда всадить топор. – Или у вас рты остались только для хлеба? А как же совесть, что сильнее мук ада? – Шамиль медленно поднял глаза, и мухаджирам показалось, что веки, прикрывавшие чёрно-карие, глубоко запавшие глаза Имама, были отлиты из тяжёлого чугуна. И он, чтобы их приподнять, напряг руки, мышцы груди и плеч. – Э-э, что сделать с вами за это? – он вопрошал своих советников, как Высший судья, как Карающий Дух гор. И от его слов, шеи их коченели.
Грозный Шамиль, заложив большие пальцы за наборный кожаный пояс, не хотел прерывать разговор с мудрецами, в чьих умных. Исстрадавшихся глазах светились: почитание, страх, благодарность, тревога и счастье – одновременно. Между им и ними существовала незримая связь, от которой и он, и они испытывали беспокойную, необъяснимую зависимость, в которой остро нуждались в этот роковой час.
Имам смотрел на этих уставших молчаливых людей, прошедших с ним огонь, воду и пору величия; находившихся от него в полной зависимости и ловил себя на том, что они хотели бы уравнять себя с ним; сделать их отношения такими, после которых могли бы свободно встречаться с ним в оставшиеся земные дни! Внимать друг другу, помогать в минуты горестей и после прожитых жизней так же вместе очутиться в раю, но тогда уже не под тенью сабель, а под сенью цветущих дерев.
– Воллай лазун! Молодец, Хаджияв из Караха!.. – Имам понимающе усмехнулся, кладя руку ему на плечо. – Всё так…Для рта, который молчал – две доли. Хэ-хэ…И тайно грешившая – явно рожает, верно? Однажды и дочь муллы согрешит…Ты знаешь, Хаджияв…Отрезавшего хвост – змея не забудет, убийцу отца – сын не забудет. – Губы Шамиля искривила мстительная улыбка. – Думаю, вы все поняли мою мысль. Имама обмануть можно, Аллаха нельзя…Ай-е! Дышите свободно, – приказал Повелитель, и в его твёрдом приказе не было прежней суровости и угрозы, а едва уловимая весёлость. – Верю. Худжияв, у тебя нет камня за пазухой. Как и у всех, кто не предал…Кто поднялся вместе со мной сюда, – в орлиное гнездо. Биллай лазун! Крепость и неприступность Гуниба – равна мужеству и силе его защитников. Здесь! – он с силой топнул ногой, сдавил костяную рукоять своего кинжала и впился глазами, в собравшуюся послушать его огромную толпу. – Здесь не было и не будет слышно голосов малодушных! Тех, кто у своих очагов вместе с бабами, назвал нас, защитников Гуниба – безумцами. Здесь нет и тех, продажных шакалов, которые трусливо поджав хвосты, бежали в услужение к Белому Царю!
Хо! Они полагают, что склонившаяся голова, легче сохранит свою жизнь, чем непокорная, гордая, помнящая о могилах отцов и чести Кавказа! Но так думает и баранья башка, когда смиренно вытягивает шею под нож резника.
Эти презренные псы думают у них папахи на головах? Хай, хай…Но папахи их головы не спасут от праведного гнева наших шашек.
Они думают – они мужчины, раз у них усы и бороды! Но усы есть и у поганой собаки, а борода у козла. О, Небо! Клянусь своей кровью…Изменникам Имамата, лучше находиться под землёй, чем на земле!
Уо! Эти шайтаны считают защиту Гуниба ошибкой! Моей роковой ошибкой! Хо! Мои прежние наибы стали дерзкими и коварными, как осмелевшая стая вонючих гиен, окружившая одряхлевшего льва. Они мечтают за счёт гяуров, возвыситься надо мной, только и ждут случая. «Поклонись восходящему солнцу, а не закату его», – говорили наши отцы и деды…Но мой час заката ещё не настал. И, клянусь Небесами, время рассудит нас.
* * *
Скопище людей между тем прирастало всё новыми и новыми папахами, бурками, кинжалами и платками. Взоры собравшихся разгорались, как пламя; толпа напрягала мышцы, жадно ловила и впитывала каждое слово Имама, как растрескавшаяся земля, радующаяся любой капле живительной влаги.
Шамиль был возбуждён, каменные скулы горели багрянцем. Вещая в толпу, он получал в ответ немедленный ярый отклик. Был счастлив и опьянён всеобщим порывом единства. Его лик, как в былые достославные времена, озарился верой; жесткий широкий рот дёргала мгновенно пробежавшая судорога. Бронзовый кулак продолжал сжиматься, в такт срывавшимся с его губ призывам, которые разносил по гунибскому плато ветер. Будто слова эти – горячие алые угли, были завёрнуты в металлическую фольгу, и их, как жарево, доставали из раскалённой печи. Голос, сорванный до хрипоты, вырывался из напряжённого горла упругой булатной спиралью. И в эту спираль втягивались людские души.
Воллай лазун! Вооружённая до зубов толпа обожала его, верила каждому слову, была готова идти за ним на жертву и смерть.
…Шамиль, окружённый плотным кольцом дюжих, проворных быстроглазых телохранителей – бородачей. Порывисто поднялся на три ступени каменной башни. Так было лучше видно людей, так было лучше видно его.
– Уо! Я так и не услышал от мудрецов ответа на свой вопрос: что через два солнца ждёт нас всех? Жизнь или смерть? Победа или поражение?..Что ж, тогда отвечу вам сам, хотя я…и не мудрец.
Да-а…нам, смертным, не суждено знать будущего. Всё во власти Аллаха. Но в одном, я убеждён точно: всех нас, стоящих здесь – ждёт бессмертие! Народная память о нас никогда не забудет! Птицы и люди будут петь о нас песни, горы и реки будут повторять наши имена. Хо! У малых народов большая судьба. Малым народам нужны большие кинжалы и большие друзья.
Волла-ги! Мы воины Священного Газавата. Языки наши, имена наши, обычаи и характеры – разные…Но у всех нас есть одно общее: верность и любовь к Дагестану! Никто из нас не пожалеет ни крови, ни жизни ради родной земли, ради свободы Кавказа!
Имам Шамиль воздел руки к высокому, вечному Небу, в котором гордо и величаво парили орлы. Бездонным и синим было оно, словно сапфировый купол над головой. Но только куполу, положен предел, а этому воздушному чистому океану предела не было. Оно было открытым во все стороны и бесконечным. А под ним, также во все стороны, насколько видит орлиный глаз, простилались только горы и горы, ничего кроме могучих гор, до самого солнца, низко висевшего в этот час над дальними пиками.
– О, Алла! – он обратился к Всевышнему, громким голосом, ничего не клянча и не вымаливая, с благородством и достоинством.
Затем окинул открытым взглядом, столпившихся вокруг него горцев и тем же твёрдым, со ржавчиной, голосом продолжил:
– Запомните люди!.. Кавказ – это центр мира! Волла-ги! Истинно говорю вам. Всевышний сотворил Кавказ, как единый дом, под крышей коего живут благодатные, свободолюбивые, смелые народы. Отсюда, от наших хребтов и долин, от наших горных рек и белых снегов, и началась история человечества. Билла-ги! Здесь, сокрытая и помеченная клеймом Кавказа, храниться великая тайна мира. И мы – горцы поставлены Творцом охранять эти тайны, беречь их для будущего правоверного мира.
Но вот урусы вторглись на Кавказ! Разрушили наш общий дом, изуродовали жизнь народов, осквернили наши ущелья, адаты и шариат! Талла-ги! Знаю, враги могут убить меня и моих сыновей…Возможно, убьют и вас – моих друзей, моих верных мюридов. Но сжатые в единый кулак наши пальцы никакому врагу не удастся разжать. Ай-е!
Этот булатный кулак тяжёл и верен, потому, что его сжали беды Кавказа и низамы нашего Имамата. Он схватит за горло врагов и вышвырнет их прочь из наших священных гор и долин. Так было и так будет!
Что ж, судьба и в пропасть сбрасывает, и спящего будит. Заклинаю вас, братья! Никогда не выпускайте оружие из своих рук! Кто не защищается – погибает. Защита воина – острие меча! Горе бросившим оружие! Бейтесь люди, бейтесь за каждый дом, за каждую ступень своего дома!
Имам перевёл дух, его грудь высоко вздымалась, точно он на миг вырвался из огненной сечи, испить воды.
– И последнее! – Шамиль сделал паузу, на висках и переносье его бархатисто лежала тень, на лбу в косой морщине сосредоточенного раздумья темнела пыль. – Правоверные мусульмане, вы сделали то, что требовалось, что было в ваших силах. Теперь всё во власти Божьей. Молитесь, братья! Точите кинжалы и шашки, готовьте ружья…И да продлит ваше время Аллах. Вассалам, вакалам. Аминь.
Биллай лазун! Его со всех сторон окружали люди; они махали руками, потрясали оружием, старались дотянуться, прикоснуться к своему Повелителю, живому пророку. И глаза верховного вождя, наставника и трибуна, невольно подёрнулись счастливой поволокой. «Невозможное – возможно!» – пульсировало в его висках. Он милостиво кивал головой, приложив руку к груди, будучи среди любящих его, верящих ему, ловивших его дыхание и его слова.
Воззвание Шамиля к защитникам Гуниба закончилось. Мухаджиры низко склонили головы, и, не поворачиваясь, почтительно попятились назад, растворившись в гудящей толпе. Возбуждённый народ шумно расходился – распадался комьями, гроздьями, как распадается вязкий осиный рой.
* * *
Сам Имам оставался на месте в окружении свиты; он стоял на ступенях задумчивый, с привычно суровым, серьёзно-сосредоточенным лицом. В глазах исчез восторженный блеск и дурман. В остановившейся глубине зрачков, появилась знакомая осмотрительность, тревога, подозрительность и бесконечно работающая мысль. Взгляд его блуждал далеко, поверх голов расходившихся. Рядом с ним стоял старший сын Гази-Магомед и теснились другие высшие сановники бывшего Имамата.
Шамиль вновь посмотрел на молчаливые горы, откуда должен был появиться противник. В сей предвечерний пышно расшитый красками час, горы казались ему особенно прекрасными, но и враждебными, рубиновые зубцы которых мрачно отражались в его зрачках. Казалось, повсюду распростёрся полог гнетущей тайны, за густой чадрой которой, до времени таилось нечто ужасное и неизбежное.
Гази-Магомед заметил: тень набежала на лицо отца, и оно на миг потемнело. Глаза его не отрывались от далёких гор, над которыми тянулись, словно омытые кровью, сизые облака. Отец ещё долго стоял на ступенях, и лицо его казалось высохшим и постаревшим на фоне ложной чистоты белых снегов, покрывавших вершины гор за пределами гунибского плато.
– Тебе плохо, Имам? – тихо спросил Гази-Магомед. Их родные глаза встретились на несколько секунд. И сын, как никогда прежде, близко и чётко разглядел изрезанное морщинами лицо отца. Помолчали. Отважному Гази-Магомеду стало не по себе. Было почему-то страшно произнести даже слово, каждое слово теряло своё значение и значило теперь только одно: смерть. Он посмотрел на старую, видавшую виды черкеску Имама, на надорванный в одном месте рукав, на истёртый ременной пояс, на котором висел кинжал, и ему вдруг стало нестерпимо больно и горько за отца, за этого великого, не знавшего себе равных по силе влияния и почитания человека на всём Кавказе.
– Что ты так смотришь, сын?
– Ничего. Запах какой?..Похоже гроза…
Шамиль кивнул. И Гази-Магомед понял: отец, как суру, прочитал его мысли и чувства.
– Сын, ты знаешь такого…Гобзало из Гидатля? – Имам строго посмотрел на него.
– Ай-е! Конечно, отец. Твой верный мюршид-урадинец, ведь так? Он всюду с тобой и…
– Я оставил его, – резко перебил Имам, – у Килатля…с горстью мюридов…следить и докладывать мне за продвижением войск гяуров…Есть ли от него какие-то вести?
Шамиль вдруг подался вперёд, и весь, окаменев каждой складкой своей черкески, каждой морщиной лица, не понимая, как он сам ужасен в своей мёртвенной белизне, в свое вымученной отчаянной твёрдости, прохрипел:
– Так есть или нет? Не тяни!
– Нет, Повелитель. – Гази-Магомед отрицательно кивнул головой и скупо добавил. – Никаких вестей. Ни от него. Ни о нём.
Шамиль закрыл глаза, глубоко втянул воздух и дрогло повёл плечом, будто от холода. Потом выдохнул, прирассветил глаза, повёл взглядом по сторонам, остановился на мужественном лице сына и несколько секунд смотрел ему в глаза.
– Худо дело…– глухо, так, чтоб не слышали остальные, выдавил Шамиль. – Из ста дней один день нужен…А его нет! Раньше у меня всюду в горах были свои глаза и уши. Теперь же я глух и слеп…Мюршид Гобзало и его гидатлинцы…Это была моя последняя надежда…связь с Дагестаном. Э-эй, шайтан! Где его носит злой дух?
Отец стоял перед ним, исхудавший и чужой, на впалых щеках катались обтянутые бронзовой кожей желваки. Тёмная рука его ястребом упала на плечо сына. Промеж сжатых пальцев набилась шерсть чёрной бурки.
– Если сам…или кто-то из его мюридов объявится, срочно ко мне!
– Воллай лазун! Я услышал тебя, Имам. Будет сделано.
* * *
…Замыкающий колонну Чеченского отряда графа Н.И. Евдокимова, батальон князя Волконского был на марше в общем движении войск. 2-ая рота капитана Притулы, укрытая от пыли до глаз шейными платками, перетянутая ремнями амуниции, в защитных чехлах на фуражках и кепи, плотно следовала в походном строю.
Батальон был уже сажен двести впереди казачьих сотен, ехавших следом, и с высоты их седёл, сквозь шлейф пыли, казался какой-то чёрной сплошной колеблющейся массой. То, что это пехота, можно было догадаться лишь потому, как длинные трёхгранные иглы штыков – густыми стальными щётками сверкали на солнце, да изредка, из сего лязгающего сталью жгута долетали до слуха звуки солдатской песни, сухой трескотни барабана, флейты-пикало и славного тенора, подголоска 4-ой роты, которым Виктор, вместе с другими офицерами, не раз восхищался ещё много прежде, когда их батальон, по воле судьбы, заполучил этого рязанского «соловья».
Плачьте красавицы, в горном ауле,
Справьте поминки по нас;
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ…
Рота, будто разбуженная заливистым вскриком запевалы Носкова, лужёно рявкнула внушительный припев, заканчивающий каждый куплет этой песни:
Алла-га-а!..Алла-гу-у!
Слава нам! Слава на-ам!
Смерть врагу! Смерть врагу-у!!
А им в догон уж летело ревнивое, лихое. Станичное; удалая двухрядка, хрипя мехами. Резала «казачка», и не менее сотни глоток хватали:
Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, когой-то ждёт.
В ограде бабка плачет с внуком,
Жена-молодка слёзы льёт.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идёть,
Жена коня ему подводит,
Племянник пику подаёть…
Царю верой-правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдём – тужить не будем.
А Царю…полудим.
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!
Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха-а!
– Эк дьяволы их валтузят! – хохотнули рядом с капитаном Притулой апшеронцы. Он подмигнул им и рявкнул через плечо:
– Третий и второй взвода под-тя-ни-ись! Шире шаг, черти! Шир-ре!
Над головами курилась низко повисшая рыжая пыль. На душе было волнительно, как-то праздно и беспокойно.
…У зачехлённого орудия, что грёмкало По-соседству, Виктор Иванович краем уха услыхал разговор; Михалюк, дюжий детина из первого взвода, с сивой щёткой гренадёрских усищ горячо спорил с бывалым батарейцем:
– …Да ну тебя к бесу! С такой-то силищей да не жахнем? Будя шептунов подпускать, Василич! Бацнем разок-другой, и душа басурмана вон! Глядишь. Через седмицу, другу восвояси тронем.
– Ой ли… – артиллерист с усмешкой покачал седой головой. – А ну как нас пошинкует татарин? Спаси Господи…
– Брехня. Супротив нас, какая дёржава на ногах устоит? Как зачнём крошить. Чертям тошно станет! Ты глянь. Глянь, сколь мундирного народу согнали…Страсть! И перса и турка били, а тут…
– Так ить стоит же Шамилька-стервец! Пуще прежнего стоит…
– Вот и поглядим. Как он нонче подкован, упырь.
Мимо. Тесня пехоту, прорвались густые лавы конницы, нескончаемо потекли гривастой рекой в переды. Виктор остро ощутил горделивую радость: такая мощь, такая стремнина, бурля и сметая всё на своём пути, прорывалась к Гунибу. Но рядом с самолюбивой радостью тяжко ворохнулись в нём и тревога, и полынная горечь: сумеют ли наши без великих потерь взять неприступный Гуниб. Хватит ли у генерал-фельдмаршала Барятинского должного умения и чутья, не идти напролом по трупам своих офицеров и солдат. Не повторит ли он смертельную ошибку светлейшего князя М.С. Воронцова, – у коего тоже, в сорок пятом было положительно всё…и который всего лишился. Да уж. Будь проклят тот «сухарный поход»… «Тогда тоже, мать вашу…с «кондачка» решили исполнить Высочайшую волю. Экспедиция на Дарго, с 6-го по 20 июля, завершилась катастрофой. Волчье логово в Чечне – аул Дарго был, правда, взят и обращён в пепел…Но на обратном пути наши войска. Приходи кума любоваться…намотали кровавые кишки на кинжалы и шашки горских скопищ и понесли катастрофические потери – свыше трети всего состава¹. Что ж, вечная память героям! Мёртвые сраму не имут. Известно русскому солдату: Кавказ это рай земной, заканчивающийся адом. Всё так, брат. Всё так..»
Кавалерия отгрохотала щёлкающим по гальке и камню звяком подков, скрылась в клубах неприглядной пылищи, провожаемая отборными матюгами пехоты.
Капитан Притула, сам в себе, не обратил внимания; вырубил огня и раскострил трубку; запах астраханского табаку и трута в эту минуту. Повсему, более занимал ротного и показался ему необыкновенно приятным.
* * *
…Над головами парили в чистой лазури чёрные, словно могильные кресты, грифы-стервятники. Путь лежал серединой глубокого и обширного Телетлинского каньона, близь скалистого берега гремливой речки, что пенилась и бурлила после ночного проливного дождя. Шумные стаи диких голубей вились возле неё, то садились на гранитные берега, то стремительно повернувшись в прозрачной купели воздуха, и делая быстрые круги, исчезали из вида.
Раскалённого лика солнца ещё не было видно, но верхние гребни правой стороны каньона уже вспыхнули золотой слюдой. Розовые, серые и белые глыбы, жёлто-зелёный мох, схваченные алмазной росой кусты держи-дерева, карагача и кизила проявлялись с графической ясностью и выпуклостью на прозрачном, ещё ломком свете бодрящего утра; зато противная сторона, исполинского каменного навеса и лощина, схваченная млечным туманом, который волновался дымчатой прожилью, были серы и мрачны, как фиолетовая тень позднего вечера.
Прямо перед идущей колонной, на спелой сини горизонта, с волнующей ясностью вставало на дыбы ярко-белое громадьё величественных гор с их гранёными, но изящными тенями и очертаниями. В воздухе пряно пахло водой, травами и туманными мхами, словом пахло новым прекрасным, народившимся горным утром, которое через час другой грозило превратиться в раскалённую печь.
Подпоручик Комаров. Следуя впереди своего взвода, с любопытным беспокойством стрелял яркими глазами на командира. Капитан и впрямь казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта изгрызенного мундштука трубки и с каждым шагом ускорял ход роты.
Они уже почти догнали ширванцев, чьи бурые телячьи ранцы, побрякивавшие котелки и ружья были хорошо видны. Когда сзади заслышался дробный перестук копыт, и в ту же минуту мимо пролетел лихой сотник, в алой черкеске и сбитой на затылок низкой кубанской папахе. Внезапно он молодецки на полном скаку осадил коня, до отказа откидываясь назад, едва не опрокинувшись в пыль вместе с ним. Но ловко совладал, и шально сверкая глазами и надраенным серебром газырей, поравнял ошалелого скакуна рядом с ротой капитана Притулы.
Чёрт в костёр! На ходу, глянув на этого забубенного казачину, Виктор Иванович тут же признал его. Это был тот самый кубанский, картавый сотник, – Артём Кошевенко, которому намедни, капитан в пух и прах проигрался в карты. Сей кубанец на высоком буланом коне, был вельми известен в полку за отчаянного храбреца-рубаку, бузотера, бабника, выпивоху, картёжника, и того казака, коей хоть чёрту даст прикурить в зубы, хоть самому фельдмаршалу правду в глаза отрежет.
Тьфу, дьявол! Сотник был пьян в дым; налитые дурной кровью глаза дико и вызывающе таращились на невозмутимо продолжавших идти стрелков.
– Наше вам, гразведка! – Он бросил зажатую в кулаке ногайку к рассыпанному по лбу кудрявому чубу и на его потном, морёном лице снова разбойно сверкнула щербатая улыба.
– Тю-ю, гразведка! – Пошто в охвостьях плетётесь, аки мотьня у бредня? – пьяные ноты рвали его хриплый картавый голос. При этом, не удовлетворяясь простой ездой, он. Как говорят на Кавказе, джигитовал, то бишь, жаля плёткой по крупу и шее коня, принуждал того сделать три-четыре прыжка и круто останавливаясь, поднимал на дыбы.
– Капита-ан! – Кошевенко, подмигнул ему, как Старому собутыльнику-кунаку, и колупнув траурным ногтём обгоревший, шелушившийся нос, предложил. – Могёть, пегрекинемся в кагрты ишо гр-разок? Авось, повезёт, гразведка…Кубыть, отыг-граешься, ась?
Притула отмахнулся от сотника, как от назойливого слепня, зло прикрикнул, на развесивших уши, молодых солдат.
– Добгре! Не серчай… – понимающе хохотнул казак. – Вот погрубаем обрезанных чучел, тадысь и пегрекинимся в дуграка. У меня всё готова к паграду, – он, по-конёвьи кособоча голову, сбил со лба прыгавший мокрый от пота чуб. – Глянь-ка! – Артём Кошевенко ударил себя кулаком в грудь. – Мать её в щель…У меня и черкеска кумачёва, как у палача грубаха. Аха-ха-а! А хошь, башку снесу? – сотник внезапно вырвал из ножен шашку, на лезвии которой вспыхнула белая слепящая молния.
– Кому? – не сбавляя походного шага, усмехнулся в усы капитан.
– Да хоть ихнему Шамилю! Убью, не моргну, нет во мне жалостев.
Мутные во хмелю с рыжими брызгами глаза Кошевенко смеялись, но Виктор по голосу, по хищному трепету крыльев ноздрей понял, что говорил тот серьёзно.
–Э-ээх, дайте мне ковось ё..ть, покуда я в горячке! – Сотник, озверело оскалив плотно стиснутые зубы, вдруг привстал на стремена. За вскинутой конской мордой Виктор на миг потерял кубанца, но видел горбатый спуск шашки, тёмные долы её. Жуткий по силе, рубящий удар с протягом, чисто срезал наискосок ствол молодого дубка, толщиной в руку, что зеленел у дороги. В следующий миг, дико заорав мимо лада:
…Эх, тесны Царские хомуты!
По низовьямё голи зычет:
«Атаманы, казаки!…»,_
Кошевенко, напрочь забыв о Капитане, сорвал в бешенный намёт жеребца, только пыль столбом. Куда?..Зачем?! А х… его знает!…
– Вот тебе…мать-перемать! – пробившись сквозь заслон солдат, восхищённо присвистнул Лёнька Комар. – Да уж, окаяха, голова-два-уха. И впрямь, видать «нет жалостев к кровям». Зверь!
– Да, ну-у? – покашливая в кулак, усмехнулся Притула. – Брось, и не такие компоты видали-с…В запое он, ужли, не зришь? Водку с чихирём жрать меньше надо. Зальёшь за ворот, как он, брат, ещё и не такие узоры загнёшь. Он, видать, нынче себя атаманом Платоновым мнит, аль Гарибальди по меньшей мере. Эх, только б дров не наломал, дурак…А этот может.
– Гарибальди? – Едко усмехнулся в нежные усы Лёнька. Он лукаво сверкнул весёлыми глазами и сбил перчаткой пыль со своего плеча.
– Что-о? – капитан от сей шпильки, аж подавился дымом.
– Я-с говорю…
– Разговор-рчики! Не умничай, подпоручик. – Притула, крутнулся на каблуках. И командно рявкнул:
– Ну! Что стоим, господа-офицеры? Какого чёрта трём-мнём?! Комаров, будь ты неладен!…Соколом в стр-рой, подпоручик! Рр-рота-а! По-одтяни-ись! Повзводно, в колонну за мной…шагом…арш-арш!
3
ДГСВК с. 309.
4
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6609. Л. 22-23.
5
т.е. 1859 год.