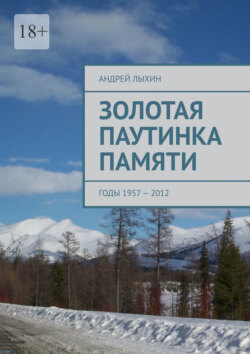Читать книгу Золотая паутинка памяти. Годы 1957 – 2012 - Андрей Лыхин - Страница 14
ГЛАВА 1. АЛЕКСЕЕВСК
РОДИТЕЛИ
ОглавлениеТрудовую деятельность мой отец начал в годы Великой Отечественной войны слесарем в Алексеевском затоне. В 1949 году был призван в армию, с 15 февраля по 3 сентября 1949 года обучался в школе авиационных мотористов при войсковой части 62546 в г. Спасске-Дальнем Приморского края. Закончил школу круглым отличником, приказом по войсковой части 40893 номер 0397 от 16 сентября 1949 года удостоен звания «моторист авиационный», этим же приказом ему присвоено воинское звание «младший сержант технической службы».
Далее был направлен в Порт-Артур, где прошла дальнейшая служба в войсковой части полевая почта 06871. После демобилизации в 1952 году, отец ушел в навигацию на пароходе «Красноалданец». Каким образом он попал в экипаж, я ранее не интересовался, а сейчас мне приятно об этом говорить, поэтому немного поясню.
Неудачной поначалу была попытка треста «Востокзолото» построить большой пароход «Красноалданец» на деревянном корпусе: «Стройка была сделана с большими техническими погрешностями – бой костылей неправильный, плахи имеют трещины, конопатка гнилая…» – говорилось в отчете. Расходы на строительство в два раза превысили плановые. Кроме того, когда в корпус попытались поставить паровую машину, оказалось, что нужно резать палубу – высота борта не соответствовала проектной… Навигации 1933—1934 годов отец всё же проработал, однако каждый рейс его сопровождался авариями, ослабленный корпус начал провисать. Массивный же деревянный корпус в дальнейшем использовали на береговые нужды в Алексеевске, уложив его в тело дамбы, а взамен изготовили металлический. 19 мая 1936 года, обновленный пароход начал работу, которая продолжалась до 1965 года.
«Красноалданец» повидал всё: и аварии, и модернизации, и даже укорочение корпуса, однако же был списан в числе последних пароходов 30-х годов постройки. Внешне буксир походил на классические суда этого класса: высокая дымовая труба, бортовые гребные колеса, буксирные дуги в корме. «Красноалданцу» доводилось ходить с караванами в верховья Витима, почти до Парамских порогов – самых знаменитых и опасных. Официально в состав «Лензолотофлота» буксирный пароход «Красноалданец» вошел в 1935 году. Это было первое на Лене судно, построенное по советскому проекту и из отечественных материалов. Зачинатель стахановского движения в Ленском бассейне, «Красноалданец» из навигации в навигацию числился в передовиках. По итогам навигации 1945 года капитан И. Г. Дружинин и механик Н. Н. Рудых были премированы денежными премиями2.
Общественный директор Музея истории Ленского флота в г. Якутске Александр Павлов посвятил прославленному судну статью, которая вместе со схемой и техническими характеристиками была опубликована в журнале «Техника молодежи» №7 за 1982 год.
И вот на этом незаурядном пароходе трудился мой отец. Видимо, сыграло свою роль то обстоятельство, что у него за плечами был, хоть и небольшой, армейский опыт авиационного моториста и была правительственная награда. И пусть паровая машина парохода и керосиновый мотор самолета не одно и то же, тем не менее в состав команды отец вошел. Что запомнилось из его рассказов? Паровой котел парохода топили дровами. В Алексеевском затоне существовал отдел, который занимался лесодровозаготовками – поленницы дров располагались вдоль всей реки. Во время одной из погрузок дров на судно, команда парохода поймала медвежонка, который некоторое время жил с командой, как её законный член, забавляя и потешая всех. Его судьба мне неизвестна, но в семейном архиве хранится фотография с Топтыгиным на палубе. Большое впечатление на речников производили «Ленские столбы», «Ленские щеки», скала «Пьяный бык» – поистине природные шедевры.
Отработав две навигации, отец устроился электромонтером в Алексеевский затон. В 1959 году наша семья переехала в пос. Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области, где отец стал трудится электромонтером в механическом цехе Чуйского рудоуправления. В 1961 году поступил на электромеханическое отделение Бодайбинского горного техникума на заочное отделение, но в 1963 году учебу оставил, так как семья ждала третьего ребенка. Умер отец 5 июня 1967 года в пос. Горно-Чуйский, там же похоронен. Таковы сухие слова-фразы отцовской биографии…
О своей маме я расскажу чуть позже, а пока попробуем вспомнить те моменты и детали отцовской жизни, черты его характера, которые отложились в моей памяти и останутся там до тех пор, пока мой разум живет и здравствует. Из рассказов про армейскую жизнь отца помню следующее. В китайском Порт-Артуре, который в то время был нашим, ему запомнились еда, одежда китайцев и чистота в городе. Про еду говорил, что много пробовал острых блюд, соусов, но про червячков, жучков и личинок не упоминал. Немного удивляло отсутствие хлеба. По улицам передвигались экипажи, запряженные осликами, у которых сзади был привязан кожаный мешочек для органических отходов. Из армии отец привез красивую скатерть с цветами, драконами и большой термос, которые мама берегла долгие годы. Скатерть хорошо стиралась, краски не выгорали, оставаясь яркими, а вот термос я разбил нечаянно, не рассчитал длину холщовой сумки и свой рост, когда с двоюродной сестрой Марией мы несли паёк дядьке – родному отцовскому брату, работающему токарем во вторую смену. Булыжник на дороге «доказал», что у меня в руке негабаритный и хрупкий груз!
В наследие от отца мне достались документы и фотографии. Одна из самых ценных – фотография отца в звании сержанта, у развернутого Знамени части, с надписью на обороте: «Отличнику Лыхину Павлу Матвеевичу. За отличные успехи в боевой и политической подготовке награждается личной фотокарточкой у развернутого Знамени части. Приказ в/ч 06871 №084 от 17.05.51г. Командир в/ч 06871 подполковник п/п Екимов». На гербовой печати имеются слова «полевая почта», это говорит о том, что часть дислоцировалась за пределами СССР.
Замечательна фотография, где на крыльце клуба Алексеевского затона стоят два друга: Лыхин Павел и Попов Вениамин. Стоят в кирзовых сапогах, голенища которых сжаты в гармошку, в широких шароварах черного цвета, в фуфайках, сработанных в ГУЛаге и для подопечных ГУЛага – без откидного воротника, с боковыми накладными карманами. На головах – шапки из той же конторы, но рубашки у ребят белые, а посему у них праздник. Именно в таком виде отец начинал ухаживать за мамой. Упомянутая выше фуфайка, она же стёганка, она же стежОнка, это символ не одного поколения советских людей. Теплая, удобная, не сковывающая движения, она боялась влаги. Но это детали, поскольку сибирские зимы достаточно длинные и фуфайка оправдывала своё предназначение в полной мере.
Павел Лыхин (слева) и Вениамин Попов. Поселок Алексеевск. 1953 г.
На фотографиях моих родителей популярность фуфайки безусловна, хотя у многих попросту не было возможности приобрести что-то другое, более цивильное. Свое первое пальто мама сшила сама, и так поступали многие девчата. Мужчины же мечтали о «москвичках» (укороченное пальто с большими отворотами и большими пуговицами), а пределом их мечтаний были кожаные куртки с крупной металлической молнией, служившие не одно поколение. Так в 1979 году, у своего дяди в гараже, я увидел кожаную куртку, которая досталась ему после смерти моего отца, и которая имела весьма приличный, винтажный вид, хотя ей было не менее 15-ти годов. Самой крутой фуфайкой считалась та, у которой был воротник и боковые, вшитые во внутрь, карманы. А если у тебя имелись варежки-шубенки, ты вставлял их в потайные боковые карманы и считался весьма крутым пацаном. На выход была одна фуфайка, парадная, на работу и для игрищ на улице была другая, уже видавшая виды. В зимнем одеянии отец использовал медную проволоку для крепления пуговиц и на шапке-ушанке вместо шнурков-вязок делал медные крючки, что было весьма удобно, так как не морозишь пальцы и застегиваешь быстро, но отрывалось все, привязанное таким образом, естественно с корнем!
Помимо фотографий в семейном архиве хранятся грамоты родителей. Здесь отец – несомненный лидер. Получал грамоты от Алексеевского затона Лензолотофлота, от Алексеевского затона Ленского речного пароходства, от Чуйского рудоуправления, от Иркутского областного совета народного хозяйства. Не смогли мы сохранить удостоверение к медали, о которой я упоминал выше, но я его хорошо помню, медаль там была изображена цветной, с профилем Сталина и со словами «Наше дело правое, мы победили».
Моя мама, Голышева Августа Ивановна, в 1951 году переехала в поселок Алексеевск, где находился Алексеевский затон с судостроительноремонтным заводом, и куда перебрались её старшие сестры. Здесь она встретила свою судьбу, моего отца, Лыхина Павла Матвеевича, который отходил мотористом две навигации на «Красноалданце» и устроился в электроцех Алексеевского затона электрослесарем.
Осенью 1953 года стали жить вместе, в доме моей бабушки, Лыхиной Агафьи Ивановны, которую все звали, почему-то Галей. Планировка бабушкиного дома была следующей. По коридору-прихожей налево – кухня, направо – комната, прямо – зала и комната бабушки. Небольшая деталь: при строительстве в 1953 году Дома культуры, мама посадила, вместе с подругой Анкудиновой Люсей, два тополя, причем мамин тополь, крайний слева, был с раздвоенным стволом. В декабре 1954 года у молодых родился первый сын, Александр, но прожил он только 18 дней, сказалась травма, полученная при рождении. 22 марта 1955 года мои родители официально оформили свои отношения, а 12 января 1957 года родился я, сын Андрей.
Андрюша Лыхин. Поселок Алексеевск. 1959 г.
Трудовой путь мамы в Алексеевском затоне. 01.11.1951 г. – принята рабочей в наружный цех. 06.05.1953 г. – переведена на электростанцию в качестве щитовой. 06.11.1953 г. – переведена на должность курьера-рассыльной. 20.04.1954 г. – назначена телефонистом телефонной станции. 23.07.1956 г. – уволена по собственному желанию.
2
Из книги Г. Арутюнова «Алексеевский меридиан», Симферополь, «Таврида», 1997 год.