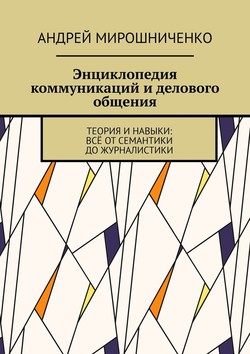Читать книгу Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики - Андрей Мирошниченко - Страница 4
Глава 1. Язык и мышление
1.1. Связь между языком и мышлением
Оглавление…Но я забыл, что я хочу сказать, —
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Поэт видит или чувствует порой тоньше, чем ученый. В своем знаменитом стихотворении «Ласточка» («Я слово позабыл…») Осип Мандельштам в двух строках удивительно точно выразил взаимоотношение мысли и слова.
То, что язык и мышление человека определенным образом связаны между собой, – не вызывает сомнений у ученых. И действительно, ведь свою мысль мы не можем уловить в какой-либо иной форме, кроме как в форме слова, предложения. Язык, как считал известный французский лингвист Г. Гийом – помогает мышлению осуществить перехват самого себя: «Благодаря языку мышление знает, в каком месте своего более или менее замедлившегося круговорота оно находится».1
Многие лингвисты и психологи считают, что мышления нет без языковой формы и язык – это форма, материальное воплощение мысли. Другие ученые более осторожны в суждениях, они разделяют язык и мышление как самостоятельные, хоть и взаимосвязанные функции человеческого сознания. К примеру, основоположник современной лингвистики швейцарец Фердинанд де Соссюр (1857—1913) отмечал, что мышление, взятое само по себе, похоже на бесформенную массу, где ничто не разграничено, иными словами, его даже вряд ли можно назвать системой. Язык же, наоборот, является структурированной системой, которая позволяет уточнять и формализовать процесс мышления, хаотичного по своей природе (рис.1).
Иными словами, «живая мысль», реально переживаемая человеком в определенный момент времени, является как продуктом деятельности сознания, так и продуктом бессознательно-психических процессов, протекающих в мозгу человека.
Человек изучил логическое мышление. Наука логика признала за логическим мышлением стройную форму: понятие, суждение, умозаключение. Но реальный процесс мышления в нашей голове заметно отличается от научной абстракции под названием «логическое мышление». Реальное «живое мышление» – сложный, зачастую алогичный, сознательно-бессознательный (как иногда говорят психологи) процесс, обусловленный ценностями и целями человека, опытом, ситуацией. Физически – это набор импульсов, содержательно – это великая тайна. Этот процесс не имеет логических правил и норм, он бесструктурен и бесформен.
Но язык как будто специально приспособлен для того, чтобы схватить мысль в нужный момент, остановить в застывшей форме ее безумный полет. И происходит чудо – в этой застывшей форме мысль становится понятной не только самому «хозяину мысли», но и его собеседникам.
Более того, в форме слова мысль может быть «замороженной» на века. Мы и сейчас получаем послания из прошлого. Древняя надпись на камне является застывшей мыслью, которая много тысячелетий назад зудела в мозгу древнего человека, пока не была схвачена языком. Мы не имеем никакой возможности уловить ту мысль непосредственно. Нейроны мозга, по которым она пробежала, тысячи раз обратились в прах. Но в форме слова эта мысль спустя тысячелетия предстает перед нами во всей своей первозданной наготе – ровно такой, какой она была в момент ее продумывания в голове нашего отдаленного веками предшественника.
Приспобленность языка улавливать и фиксировать мысль – феномен удивительный. Изучая так называемую внутреннюю речь, ученые сделали любопытное открытие: у испытуемого, обдумывающего задание, фиксировались сильные нервные импульсы, поступающие в гортань, небо, язык – то есть в органы говорения. Это уже известный научный факт: даже у молчащего думающего человека артикуляционный аппарат работает. Организм как бы торопится услужить мышлению, выразить его в форме слов, даже если это не требуется по ситуации – человек молчит. Но язык – и как мускульный орган, и как способ выражения мысли – в буквальном смысле рвется в бой.
В то же время, очевидно, что возможно и мышление, не воплощенное в форме языка. К примеру, психология говорит об образном или художественном мышлении, присущем людям искусства. Художники, композиторы видят мир в изобразительных, цветовых или музыкальных образах. Люди, склонные к математике, обладают математическим мышлением – они оперируют числами и множествами. Архитекторы способны мыслить архитектурными линиями и формами, инженеры – технологическими понятиями и так далее.
Но в любом случае человек «перехватывает», как говорил Гийом, собственную мысль с помощью знака – математического, нотного, пиктографического, но чаще всего языкового. Без выражения в знаке мысль нам недоступна. Это всего лишь набор электрических импульсов в нейронах мозга, непосредственно расшифровать который невозможно. Пока не удавалось.
1.2. Язык как система знаков. Виды знаков
Что же такое знак? Почему он обладает возможностью улавливать и фиксировать мысли, делать их доступными для самого человека и его собеседников?
Высшие животные, обезьяны, как и человек, способны оперировать предметами и даже использовать их в качестве орудий. Эта способность называется «ручным интеллектом», или предметным мышлением. «Ручной интеллект» так и назван, потому что человек «думает» руками, то есть производит какие-либо, иногда весьма сложные действия с предметами, не задумываясь над ними, не обдумывая их содержание. В самом деле, руки сами знают, что им делать с вилкой, ложкой или выключателем торшера. Особенность «ручного интеллекта» в том, что операции с предметами, с действительностью совершаются непосредственно, в физическом контакте.
Но человек – единственное существо, способное оперировать предметами в их отсутствие. Для этого человек оперирует заместителями предметов – знаками. Знак – это отсутствие реальной вещи и одновременно ее присутствие в символической форме.
Огромный выигрыш человека перед остальными живыми существами в том, что благодаря знакам мир человека удваивается. Человек без слова имел бы дело только с теми вещами и предметами, которые он видит, которыми он может манипулировать непосредственно. Активность его сознания не пошла бы дальше известных обезьянам границ – дальше «ручного интеллекта». Но, обладая словом, человек строит, моделирует второй мир, значительно превосходящий мир его физических возможностей. Слово позволяет человеку оперировать предметами даже в их отсутствие, потому что слово символизирует эти предметы.
Слово обладает этой символической, замещающей природой потому, что является знаком.
Знак – созданная человеческим умом абстракция, замещающая вещи и явления в нашем сознании и общении. Важнейшая характеристика знака – условное значение, то есть способность передавать представления о предметах так, чтобы разные люди одинаково понимали эти представления (рис.2).
Знак означает что-то потому, что состоит из означаемого и означающего. К примеру, для слова «дверь» означаемым может быть как понятие двери или наше представление о двери, так и конкретный предмет – дверь. А означающим будет само слово «дверь» в материальной форме, выраженной на письме или в звуке.
Означающее – то, что в знаке доступно восприятию (зрению или слуху), материальная форма.
Означаемое – смысловое содержание знака, переданное означающим. Означаемое есть «нечто», подразумеваемое человеком, употребляющим данный знак (рис.3).
Означаемое – план содержания языка, а означающее образует план выражения языка.
Знаки бывают самые разные – дорожные, музыкальные, математические. Деньги, награды, жесты – это тоже знаки. Они состоят из означающего (материальной формы) и означаемого (смысл, значение, символизируемое этой материальной формой).
Важная характеристика знака – его условность. Знаки становятся таковыми только тогда, когда мы (будто бы условившись между собой) наделяем их значением. К примеру, красная роза, выросшая на клумбе, – просто цветок. Подаренная женщине эта же красная роза уже воспринимается как знак любви. Иными словами, сама по себе материальная форма – красная роза – еще не является знаком. Набор звуков или букв сам по себе тоже не является знаком. Мы, к примеру, не понимаем слов незнакомого языка. Но слово становится знаком, когда оно обнаруживает свою связь с означаемым, когда мы узнаем его символическое значение. Тогда в словах появляется смысл. Поэтому знак – это не просто материальная форма, но такая форма, которая имеет устойчивую и узнаваемую связь со своим содержанием – с означаемым.
Еще один пример: просто меховая шкура, накинутая на плечи, ничего не означает, это меховая одежда, она теплая. Но если это мех горностая, то такая шкура – знак монаршей власти, а вовсе не защита от холода. Только монаршие особы в средневековой Европе имели право носить мех горностая. Зверек горностай – монарших кровей? Нет, он не родственник королям, он не похож на королей, он не ходит вместе с королями. Он никак сам по себе с королями не связан. Просто люди как будто условились, что мех этого редкого зверька – атрибут королей. Значение этого знака условно.
Лингвисты, психологи и философы выделяют несколько видов знаков. До настоящего времени сохраняет свое значение классическое (введенное философом Ч. С. Пирсом) подразделение знаков на три группы:
– индексальные знаки;
– иконические знаки;
– символы.
Индексальные знаки, или знаки-признаки, – как ясно из названия, являются признаками чего-либо. След на песке, дым от огня, симптомы болезни – это признаки явлений, к которым индексные знаки привязаны причинно-следственной связью. Индексальный знак практически немыслим в отрыве от обозначаемого, его породившего. В народе это свойство индексального знака охарактеризовано весьма точно: «Нет дыма без огня». Индексальные знаки настолько близки к обозначаемому, что являются его свойством, то есть тем самым признаком. Мы привыкли интерпретировать индексальный знак определенным образом (например, тот же дым) просто потому, что почти всегда видим его, сопровождающим огонь.
Некоторые ученые считает, что признак не следует считать знаком. В самом деле, ключевое свойство знака – символически замещать предмет. Знак принципиально может обходиться без наличия означаемого предмета. Признак же не может обойтись без вещи или явления, к которому он привязан. Например, пузыри на лужах не символизируют дождь, они являются непосредственным проявлением дождя. Точно так же косые линии под плывущей вдали тучей – это признак дождя. Вообще-то, это сам дождь. А вот косые линии, символизирующие дождь на картине художника – это уже настоящий знак, так как нарисованные косые линии символизирует дождь в его отсутствие. На картине ведь реальный дождь не идет. Высокая температура больного – это не знак, а признак болезни. А вот запись температуры в листе больничного обхода – это настоящий знак, символизирующий высокую температуру больного и способный символизировать ее в отсутствие как самого больного, так и его высокой температуры.
В общем, индексы-признаки в очень малой степени реализуют сущностную характеристику знака – замещать предмет или явление в нашем сознании. Индексальные знаки всегда присутствуют вместе с явлением, к которому они привязаны, а не вместо. Можно сказать, что это очень «слабые» знаки. Или согласиться с теми лингвистами, которые не считают признаки знаками.
Иконические знаки, или знаки-копии – это такие знаки, у которых означающее структурно или качественно похоже на обозначаемое. Например, план сражения является иконическим знаком сражения – они подобны. А икона святого прямо изображает лик святого (отсюда и название – иконические). Знак-образ дальше отдаляется от обозначаемого, чем знак-индекс, но все-таки еще связан с обозначаемым хотя бы тем, что должен быть на него похож. Похож настолько, что мы, даже не зная этого знака прежде, можем понять его значение, догадаться. К примеру, любой сообразительный пассажир вполне может понять, что означают две перечеркнутые ступни, нарисованные над кабиной водителя автобуса. Это означает «Не стой над душой».
Вообще, почти все иконические знаки, связанные с движением, перемещением, легко поддаются пониманию даже без предварительного знакомства с этими знаками. Любой человек поймет, что в ящике с нарисованным бокалом содержится легко бьющееся содержимое. А стрелка на рисунке, указывающая на открытую дверь, для любого человека будет означать: «Выход там». Потому что на рисунке изображен выход и направление движения.
Иконическим знаком является также изображение тех самых косых линий дождя на картине. На картине косые линии под облаком похожи на дождь – они и означают дождь. Это уже полноценный знак, заменяющий само явление.
Образные знаковые системы чрезвычайно распространены: система дорожных знаков и геральдика, народные обряды и этикет, древние наскальные рисунки и образные системы современной живописи – это все иконические знаки.
Но высшей формой знака как абстракции являются символические знаки, или знаки-символы. Например, слово. Связь между формой и содержание символических знаков установлена произвольно, по соглашению между людьми касательно именно этого знака. Означающее никак не напоминает означаемое. Например, колебания воздуха при произнесении слова корова не содержат никаких признаков, относящихся к реальной корове. Для того чтобы понять слово корова, нужно знать установленную между людьми в русском языке символичность этого слова. Точно так же запись температуры в листе больничного обхода – это символический знак, хотя сам уровень ртути в градуснике больного – это индекс температуры тела, то есть признак болезни. Но запись этого признака цифрами – это символический знак.
Цветок герани, выставленный в окне явочной квартиры в Берне (к/ф «Семнадцать мгновений весны»), означал вовсе не то, что хозяин любит цветы. Он означал провал, это был символ провала. И символичность этого знака была специально оговорена хозяином квартиры, Штирлицем и Плейшнером (да только Плейшнер об этом запамятовал – пьяный воздух свободы сыграл с ним дурную шутку).
В этом одна из особенностей символических знаков – их значение известно только тем, кому оно известно. Как будто бы они условились (иногда специально, как Штрилиц с Плейшнером) за этими знаками видеть именно это их значение. Больше никак значение знака не обеспечивается – ни похожестью на обозначаемое, ни принадлежностью к обозначаемому явлению.
Это свойство приводит к несколько парадоксальному явлению: понять символический знак можно только тогда, когда уже знаешь его значение заранее. Мы понимаем слова нашего языка, потому что загодя знаем их значение.
Форма индексальных и иконических знаков позволяет догадаться о значении знака даже незнакомому со знаком человеку. Что же касается символических знаков, то их форма сама по себе, то есть вне специальной договоренности, не дает никакого представления о содержании.
Это кардинальное отличие символических знаков от всех прочих рассмотрим на конкретном примере – когда означающим знака является дым.
Вот над лесом поднимается дым. Это, скорее всего, индексальный знак – признак пожара. Он означает, что где-то там, в месте возникновения дыма, идет реакция высокотемпературного окисления. То есть горение. Пожар.
Вот мы видим, как летит над тушинским полем самолет, а за ним шлейфом тянутся три цветных дыма: снизу красный, потом синий и сверху белый. Мы узнаем их и их расположение – это цвета российского флага. Порядок и цвета дымов похожи на флаг. И мы понимаем этот иконический знак – идет летный праздник и цветные дымы имитирует флаг в небе. Причем флаг в этих цветных дымах увидит, догадается даже иностранец.
Вот в диких прериях среднего американского Запада мы видим, как вдалеке поднимаются другие цветные дымы. Вряд ли они символизируют российский флаг. Наверное, эти цветные дымы – сигнализация индейцев. Племя навахо передает племени хавасупаев какое-то сообщение на известном им языке дымов. Максимум, что мы можем понять, – что это некий код, некая знаковая система, кто-то что-то кому-то передает. Но что эти знаки означают – мы не поймем, потому что не знаем. Индейцу условились между собой, что эти цветные дымы означают, но не условились с нами. Без сомнения, это символические знаки. Они имеют условную – символическую природу.
На этом примере мы видим, что типология знака не зависит от материального носителя знака, не зависит от означающего. Во всех трех примерах формой знака, планом выражения (означающим) является одна и та же субстанция – дым (рис.4).
Типология знака зависит от природы отношений между означаемым и означающим. Это:
– или отношения причины-следствия (индексальные знаки);
– или отношения смежности-подобия (иконические знаки);
– или отношения произвольно-условные (символические знаки).
Язык – это система символических знаков2. Системами символических знаков являются также нотное письмо или язык математики3.
Чем же отличается язык, как символическая знаковая система, от прочих символических знаковых систем?
Язык – это универсальная знаковая система. Знаками языка можно объяснить и описать любую другую знаковую систему. Язык устроен таким образом, чтобы с помощью конечного числа элементов передать бесконечное множество смыслов и сообщений. Словами мы можем описать и нотную запись песни, и любую математическую формулу и картину сражения, и состояние больного. Языком мы можем описать все. Даже говоря порой о некоторых вещах, что они невыразимы, их невозможно описать, мы тем самым… все-таки описываем их сущностные характеристики. Язык может быть орудием объяснения и организации для любых других знаковых систем.
Язык – универсальный материал, который используется людьми при объяснении мира и формировании той или иной его модели. Хотя художник может это сделать и при помощи зрительных образов, а музыкант – при помощи звуков, но все они вооружены прежде всего знаками универсального кода – языка.
Это свойство языка является чрезвычайно важным и востребованным в производственной деятельности человека. Создавая, формируя некую среду, объекты и цели деятельности, мы создаем и необходимую систему условных знаков, описывающих значения, важные для этой деятельности. Например, менеджер, запускающий новое производство, создает определенный регламент – то есть систему знаков, регулирующую производственный процесс. И эта система знаков может выражаться определенными командами, иногда звуковыми и световыми сигналам (сиреной, лампочками, которые включается в необходимый момент и т.п.) или какими-то другими знаками. Но для внедрения новой знаковой системы в коллектив работников, для приучения работников к ее условным значениям все равно необходимо объяснение этой системы в знаках языка, то есть в словах и предложениях.
Способность человека к символизации стала ярчайшим проявлением его мышления и вырвала человека из животного мира. Благодаря символической способности языка и мышления, человек может обдумать свое действие в отрыве от физического мира, то есть подготовить действие, и – договориться с другими людьми. Это стало ключевым преимуществом человека перед другими живыми существами.
Символическая природа знака наиболее полно и универсально проявилась в языке. Универсализм языка как системы знаков позволил человеку создавать какие угодно коды, обеспечивающие какую угодно деятельность. Естественно, для успешного осуществления этой деятельности нужны адекватные и эффективные коды, необходимо умение не только придумывать их, но и объяснять. Без объяснения невозможны согласованные действия, а само объяснение невозможно без универсального кода – без человеческого языка.
1.3. Язык и речь. Теории происхождения речи
Где, в каком виде в действительности существует язык? Ответ на этот простой на первый взгляд вопрос найти очень непросто. Язык – это система знаков, то есть перечень этих самых знаков, а также перечень возможных связей между знаками. Ну и где существует этот огромный массив информации?
В общем-то, нигде. Язык – это некий потенциал символических значений. Конечно, конкретный язык существует в умах носителей этого языка – в среде соответствующей нации. Но трудно представить, чтобы он был «записан» в их головах, как, скажем, «записана» таблица Менделеева в голове ученого-химика. Национальный язык может быть записан в словарях, но нет ни одного словаря, содержащего язык полностью; в лучшем случае это будет лексика (словарный запас) языка да и то вряд ли полная. Нигде и никак не может быть зафиксирована главная способность языка – способность знаков реализовывать свои потенциал значения и выстраиваться в смысловые цепи – предложения и тексты.
Мы примерно знаем, что слово хлеб имеет более десятка значений, которые могут быть востребованы в той или иной ситуации тем или иным контекстом. Когда нужно, мы употребим слово хлеб, причем правильно. Мы также знаем возможные значения десятков тысяч других слов и умеем правильно их реализовывать. Но полной записи языка как кода нигде нет. Пожалуй, она просто невозможна, так как во многих ситуациях мы будем реализовывать нашу языковую способность исключительно применительно к случаю. А записать, зафиксировать все многообразие случаев и смыслов – это безумие.
Для многих это может оказаться большим открытием: то, чем мы ежедневно пользуемся, нигде не существует.
В самом деле, слова и предложения, высказываемые, записываемые и воспринимаемые нами – это уже не язык. Это наша реализованная языковая способность, то есть речь. Язык же – всего лишь абстракция, придуманная учеными. Он существует в виде объекта лингвистики, в виде феномена, позволяющего объяснить происхождение, развертывание человеческой речи.
Можно даже сказать, что в повседневной практике язык человеку недоступен (если только человек не берется изучать язык специально). Потому что как только человек использует язык, этот язык сразу становится речью.
Следовательно, между языком и речью существует как некое различие, так и некая связь.
Уже из подступа к теме видно, что язык – это некая потенция, возможность, а речь – это реализация этой возможности. Оперируя элементами языка, мы получаем речь. Язык – это система знаков и их возможностей, а речь – последовательное выстраивание этих знаков, реализация их возможных значений и связей. Язык дает средства, речь использует эти средства.
Рассмотрим ключевые различия между языком и речью.
Слово в языке многозначно, оно может обладать тем или иным значением. Слово в речи – однозначно, оно привязано к контексту своего предложения, к ситуации, в которой произнесено.
Язык социален – он принадлежит определенному народу и является средством коллективного пользования. Ни один индивидуум не в состоянии определять судьбу языка, управлять языком. Язык не зависит от отдельного человека. Зато любой субъект может управлять своей речью, речь является исключительно продуктом говорения индивидуума. Коллективная речь невозможна.
Язык – это то, что человек знает. Речь – это то, что человек умеет. Педагоги говорят о знании языка и навыках речи. Кстати, навык речи, так же, как, например, навык бега, можно совершенствовать. И способ один – тренировки. А язык можно изучать, как теорию.
Перевод языка в речь – сложнейшая интеллектуальная операция, тайны которой вряд ли когда-нибудь будут разгаданы. И этими тайнами владеет на своем уровне даже пятилетний ребенок.
Ф. де Соссюр, первым обосновавший разделение языка и речи, которым лингвисты пользуются и сейчас, подчеркивал, что «оба эти предмета тесно между собой связаны и друг друга взаимно предполагают: язык необходим, чтобы речь была понятна и производила все свое действие, речь, в свою очередь, необходима для того, чтобы установился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку.»
В самом деле, хоть мы и говорим о зарождении языка у прачеловека, но это все-таки была речь. Сначала появилась речь. Представление о языке возникло у ученых древности лишь тогда, когда они задумались о природе речи. Правильно будет сказать, что язык сначала возник в форме речи.
Как и когда это произошло? Разумеется, никаких исторических свидетельств нет, записей в ту пору не велось, есть только догадки и гипотезы.
Зачатки звуковой сигнализации имеются у коллективных животных. Иногда даже возникает иллюзия, что животные общаются. Куры издают несколько десятков звуков, выражающих чувство опасности, подзывающих цыплят, сигнализирующих о наличии или отсутствии пищи. Ученые изучают сложную звуковую сигнализацию дельфинов, называя ее языком.
Однако звуки, сигналы у животных не являются знаками-символами, не являются языком. Дело в том, что любой звук животного не означает какое-либо состояние, а прямо передает его. К примеру, предсмертный крик животного, попавшего в зубы хищника, не символизирует представление о смерти, а прямо означает смерть и в этом качестве воспринимается соплеменниками. Воркование не символизирует ласки, а прямо является выражением этих эмоций: воркование и есть ласка. Сигналы животных прямо передают те эмоции, которые они сопровождают. Эти сигналы не создают второго мира символических условностей, который может быть создан человеческим языком. Животные остаются в физическом мире и их сигналы являются прямой, хоть и достаточно сложной реакцией на контакты с физическим миром.
Зная типологию знаков, мы можем сказать, что сигналы животных, это, скорее всего, самые примитивные знаки – индексальные, знаки-признаки. Предсмертный крик животного, убиваемого хищником – это признак удачного нападения хищника. Сытое урчание собаки – это признак того, что собака плотно покушала. Одно без другого не проявится.
Любопытно понаблюдать за речью человека, говорящего с животным, – с коровой или домашней кошкой. Лексическое содержание этой речи может быть каким угодно – русские крестьяне разговаривают с домашним скотом чаще всего ругательными словами. При этом основное содержание коммуникации передается интонациями – угрожающими криками или ласковым подбадриванием. То есть человек, обращаясь к животному (к «брату меньшому»), редуцирует свою речь до уровня сигналов, передающих эмоции. Это, помимо прочего, означает, что в биологическом опыте человека содержится и такая примитивная коммуникация – передача эмоциональных сигналов, присущая коллективным животным.
Звуковые сигналы животных не выходят за рамки первой сигнальной системы – системы непосредственных физиологических (обонятельных, слуховых, тактильных и прочих) реакций. Однако звуковая сигнализация коллективных животных уже проявляет и некое качество, присущее человеческому языку. Обжегшееся животное издаст крик боли, который встревожит и отпугнет другое животное, хотя то само и не испытало ожога. Крик боли для других животных заместит боль ожога. Не потому, что передаст представление об огне, а потому, что передаст соответствующую болевую эмоцию. Уже наблюдается некий факт замещения реального ожога сигналом – для других, для воспринимающих особей. По признаку боли – крику – другие животные почуют неладное и отреагируют как на опасность боли.
Это, в общем-то, похоже на передачу информации. Конечно, без всякой условности, без договоренности понимать под криком боль. Но реакция других животных последует. И, что характерно, она будет называться условным рефлексом. Условные рефлексы вырабатываются у животных (и у людей) в личном и коллективном опыте как определенная реакция на определенные сигналы. Животные при этом не договариваются, условность рефлекса подкрепляется законами естественного отбора. Не отреагируешь на крик боли – испытаешь боль. Кто не реагирует, того съедают. Выживают те, кто реагирует, кто вырабатывает правильный, необходимый для жизни набор условных рефлексов.
Условные рефлексы как реакция на определенные сигналы – вот биологические корни возникновения речевой сигнализации человека. Вот откуда возникли условные – символические знаки.
Очевидно, человеческая речь зародилась именно из этой способности коллективных животных воспринимать сигнал-эмоцию как признак явления, вызвавшего эмоцию. Этот феномен рефлекторного замещения, по-видимому, и развился у человека в способность символического замещения предметов, привел к появлению речи.
Язык человека принято называть «второй сигнальной системой». Она возникла исторически в процессе развития примитивной коммуникации, и стала инструментом познания и преобразования мира. Главная отличительная особенность второй сигнальной системы состоит в том, что, оперируя условными знаками-символами и составленными из них предложениями, человек может выйти за границы инстинктов, эмоций, непосредственных контактов с физическим миром (за пределы первой сигнальной системы) и выработать неограниченные по объему и разнообразию знания.
Существует несколько гипотез по поводу возникновения речи. Многие из них не противоречат друг другу, и все они интересны с точки зрения исследования человеческого мышления.
Звукоподражательная теория возникновения речи, или «вау-вау-теория», предполагает, что речь человека возникла из возгласов, копирующих звук явлений. В самом деле, многие события (гром, рычание хищника) или действия (бег, удар) можно передать звукоподражанием, которое будет недвусмысленно сообщать об оригинальном источнике этого звука.
И поныне люди разных народов, встретившись и не зная язык друг друга, смогут объясниться и даже создать общий язык с помощью звукоподражания. Вспомним фильм «Пятый элемент», в котором герои Брюса Уиллиса и Милы Йовович впервые поняли друг друга и установили осмысленный контакт с помощью слова «бум» («бада бум!» – «да-да, биг бада бум!), означавшего падение девушки в машину. Это звукоподражательное слово, да еще подкрепленное только что произошедшим падением, оказалось понятно обоим, потому что прямо изображало это падение (иконический знак, которые достаточно легко поддается расшифровке).4 И именно с этого звукоподражательного слова «бум» установился контакт, люди открылись друг другу, начались совместные действия и установилось взаимопонимание, перешедшее к концу фильма в любовь, спасшую мир.
Согласно теории междометий, или теории эмоционального происхождения языка (важнейшим её представителем был французский просветитель Ж-Ж Руссо), первые слова были сигналами эмоций, сигналами страсти, испуга и так далее – точно так же, как и у животных. При этом говорящий должен был выразить звуками определенную эмоцию – не ту, которую реально испытывал, а ту, которую хотел бы возбудить или передать. Это интересный случай знаковой символизации, когда знаками являются эмоциональные возгласы и символизируют они какую-либо ситуацию или действие, связанное с этими эмоциями.
Эти слова и сейчас сохраняются в нашей речи в виде междометий. Ученые даже выделяют так называемые первообразные (непроизводные) междометия, в современном языке не имеющие связей ни с одной из знаменательных частей речи: а, ага, ай, ау, ах, ба, брр, брысь, ей-ей, их, на, но, ну, о, ого, ой, ох, тпру, тю, тьфу, увы и т. д. (они отличаются от производных междометий, типа брось, батюшки и т.п.). Первообразные междометия служат для выражения эмоций и, что еще весьма характерно, первообразные междометия схожи у многих народов. Например, это отразил в своем вольном стихе «Мы сидим за одним столом» поэт В. Солоухин.
…Но в это время кошка,
пробиравшаяся по крыше,
Прыгнула, чтобы поймать воробья.
Промахнулась и упала в кадушку
с водой.
Ха-ха-ха! – на это сказал англичанин. – Ха-ха-ха! – ответил ему француз. – Ха-ха-ха! – подтвердил им обоим немец. – Ха-ха-ха! – согласился русский с тремя.
Официант, поклонившись вежливо,
сообщил нам,
Что будет подано
Самое лучшее,
Чуть не столетней выдержки,
Уникальное, фирменное вино.
О! – на это сказал англичанин. – О! – француз отозвался мгновенно. – О! – охотно включился немец. – О! – согласился с ними и я. (…)
Так я понял, почему,
говоря по-разному,
Мы все же в конце концов
понимаем друг друга:
Англичанин, русский, немец, француз.
Не правда ли, точно так же могли реагировать на какие-то внешние события самые древние пралюди?
Древний человек, общающийся междометиями, или сигналами эмоций, был, видимо, куда более эмоциональнее человека современного, поскольку значительная смысловая нагрузка при таком способе общения ложится не столько на символическое значение слова, сколько на эмоционально-экспрессивную реализацию, на лицедейство говорящего. В самом деле, и современный человек, оперируя только эмоциональной окрашенными интонациями и нечленораздельными возгласами, вполне сможет передать какой-то минимум информации. Для это, правда, придется больше обычного корчить рожи и размахивать руками.
Постепенно междометия, видимо, стали отрываться от прямой передачи эмоциональной информации и превращаться в полноценные слова с закрепленным символическим смыслом.
Теория звуковых выкриков предполагает, что речь возникла из возгласов, сопровождающих коллективных труд и служащих именно для организации труда или, например, охоты. Некоторые аргументы в пользу этой теории нам известны. К примеру, крестьяне-загонщики, выгоняющие из кустов дичь для барина, перекрикивались возгласами «бойся!». Это слово, хоть и обращено к предполагаемому кабану, но служило больше для выяснения взаимного расположения загонщиков, для координации их действий в пространстве. Ну, а старинное «э-эх, ухнем!» или «раз-два-а-а, взяли!», употребляется и сейчас, если надо сообща выдернуть машину из сугроба. Надо сказать, что символической нагрузки у этого выкрика нет, он ничего не означает. Он служит именно для ритмической организации совместного усилия, для соорганизации.
Известна также теория жестов, согласно которой прачеловек передавал информацию соплеменникам комплексом жестов, движений, мимики и звуков. В некоторых примитивных племенах охотники, вернувшиеся с охоты, рассказывают о ней соплеменникам с помощью своеобразного танца-песни, где имитируют свое поведение, поведение животных и даже погоду. Вероятно, этот «звуко-танцевальный комплекс» мог стоять у истоков речи; его звуковая составляющая затем выделилась и развилась в речь, поскольку звуковой аппарат человека оказался достаточно пригодным для развития именно звуковой составляющей коммуникации.
Многие исследователи склоняются к тому, что первоначальная человеческая речь состояла из аморфных звукопредложений, слитых с интонацией и жестами. Она походила на обезьяньи выкрики или те односложные обращения человека к животным, которые можно наблюдать и сейчас. Звукопредложение было односложным, в нем преобладали гласные звуки, в разных ситуациях один и тот же звуковой комплекс мог означать разные вещи, то есть зависел от ситуации и интонации. По-видимому, большое значение в формировании смысла звуковых комплексов играло повторение, как и сейчас в некоторых первобытных племенах. Вообще, речь древнего человека должна была быть похожа на пламенный агитационный спич – эмоциональным напором, звуками и жестами надо было буквально вдолбить соплеменнику свое сообщение, так как словесный арсенал был небогат.
Ряд антропологов полагает, что неандерталец, живший 200—40 тысяч лет назад, почти не умел говорить – в силу слаборазвитости речевых центров мозга, о чем свидетельствует анализ найденных археологами останков. Однако данные археологических раскопок свидетельствуют и о том, что в этот период уже строились жилища, осуществлялась загонная охота, т.е. существовало определенное достаточно эффективное средство общения, которое позволяло осуществлять совместные действия. Иначе говоря, речь человека формировалась постепенно – от простейших примитивных форм, напоминающих общение стадных животных, до развитой знаковой системы, с помощью которой человек может описать не только физический, но и мысленный объект любой сложности.
Вряд ли какая-то из приведенных выше теорий исчерпывающе объясняет происхождение речи. Но все эти теории содержат интересные наблюдения над природой языка и его связью с мышлением и действительностью. Самое же главное в происхождении языка и речи – не способ возникновения, который, видимо, останется нам неизвестен, а причина, побудившая человека говорить. Бесспорно, возникновению речи способствовала потребность общения, потребность лучшей коллективной организации. Ведь именно реализация этой потребности обеспечивала человеку решающее конкурентное преимущество в животном мире. Способность изготавливать орудия и способность лучше организовываться посредством языка – вот два качества, выделившие прачеловека из дикой природы и вознесшие его на вершину эволюции, как мы ее понимаем.
1
Гийом Г. «Принципы теоретической лингвистики». – М., 1987
2
Впрочем, во всех языках имеются некоторые слова, в которых означающее похоже на означаемое (то есть это иконические знаки). В русском языке таковы звукоподражательные слова: «игого», «мяу-мяу», «бр-р-р», «му-му». А есть еще слова, производные от звукоподражательных: «бибикать», «кукарекать» и др.
3
Следует отметить, что римские цифры I, II, III являются иконическими знаками. Догадайтесь, почему. Первоначально арабские цифры, которые мы используем сейчас, тоже были иконическими знаками – каждый знак содержал соответствующее количество углов в начертании: 1 – один угол, 2 – два угла и т. п. Потом начертания несколько изменились (округлились) и сейчас мы используем арабские цифры скорее как символические знаки, нежели иконические – многие люди абсолютно ничего не знают о значимости количества углов в начертании арабских цифр и воспринимают значение цифр по условной привычке. Но в целом язык математики – с цифрами, числами, формулами математических операций и функций – безусловно является системой символических знаков.
4
Кстати, в фильме слово «бум» точно также звучит и на английском. И оно не требует перевода; эта сцена первого разговора вообще не требует перевода в русскоязычной версии фильма, поскольку единственным значимым для обоих персонажей словом оказалось понятное без перевода слово «бум». Остальные слова непонятны и значения не имеют ни для героев фильма, ни для зрителей.