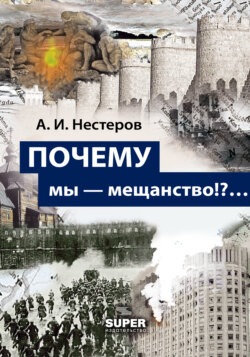Читать книгу ПОЧЕМУ мы – мещанство!?… - Андрей Нестеров - Страница 10
ЧАСТЬ 1. Теоретическое осмысление понятия «мещанство» Глава 2. Пространственная сущность мещанства 2.3. Естественные условия происхождения мещанства
ОглавлениеНачиная с 1990-х гг. в реформируемой России на смену научному видению антропосоциогенеза пришло внедрение догматичных религиозных постулатов о божественном происхождении человека. Так, Патриарх Московский Алексий заявил о недопустимости навязывания школьникам теории происхождения человека от обезьяны: «Никакого вреда не будет школьнику, если он будет знать библейское учение о происхождении мира. А если кто хочет считать, что он произошел от обезьяны, — пусть так считает, но не навязывает это другим». По опросу ВЦИОМ о взаимоотношениях церкви и общества, проведенному в апреле 2006 г., за частичное или полное изъятие теории Ч. Дарвина из учебников выступают 20 % респондентов, а 56 % высказались за ее сохранение. Вроде неплохо, но при этом сторонников креационизма и эволюционизма оказалось поровну, по 24 %. Еще 5 % считают, что жизнь произошла от космических пришельцев, остальные затруднились ответить. Вероятно, сейчас процент граждан России, признающих божественное происхождение, из числа верующих стал еще больше.
Однако, по мнению лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, «считать, что человек был рожден богом, можно было 3000 лет назад, но сейчас так думать — это абсурд!.. Преподавание религии, закона божьего, чего-то такого в школах абсолютно недопустимо. <…> У нас светское государство, и в школе нельзя иметь что-то религиозное. Православными церковь считает всех крещеных. А это абсолютно неверно. Ведь детей зачастую крестят без их согласия, в младенческом возрасте. Как ребенок может выбирать религию? Я сам атеист, мой отец был верующий, когда мне было десять лет, я тоже сказал, что я верующий. Я же не понимал ничего. А преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные хотят заманить души детей. Представьте, детям вбивают с малых лет в голову, что бог создал человека, а потом у них будет урок биологии, на котором они узнают, что есть эволюция. Это абсурд» [http://www.krugozormagazine.com/show/Evoluciya_morali.602.html].
Мы в своем дальнейшем исследовании «мещанства» будем всетаки придерживаться научных, материалистических концепций. От Аристотеля и до современных мыслителей философы, политики и другие общественные деятели разработали множество теорий и концепций, в которых в той или иной степени были отражены вопросы места жизнедеятельности людей. В современной трактовке они обобщены и характеризуют мещанство как место общества в социальном пространстве с позиций онтологического, социологического, аксиологического и других подходов. В понимании места, занятого обществом, мы и сегодня можем рассматривать различные отдельные родовые и племенные сообщества. К ним можно отнести и проживающих вместе людей первобытного общества, которое существовало десятки тысяч лет тому назад; оно изначально занимало крайне ограниченное место на Земле и в этом виде представляло собой местное первобытное сообщество. Люди той эпохи жили внутри родаплемени, основу которого составляли кровнородственные связи и отношения. Они совершали далекие по тем временам путешествия, имели определенные представления об окружающей их действительности, но из-за своей жизненной местечковой ограниченности даже не могли предположить, что за пределами увиденного где-то еще есть другая земля, другие места, где живут другие животные.
Пространство, занятое первобытным обществом, неразрывно связано с физическим пространством, оно берет из него полезные для себя продукты питания, наличие которых и определяет его жизнеспособность. Если мы сопоставим физическое и социальное пространства, то легко определим, что природное пространство существовало задолго до момента, когда в нем образовалось место, занятое людьми, — социальное пространство. К тому же свободное место, не занятое обществом, в природе существовать может, а вот общество без занимаемого там места — нет! Материальное пространство практически вечно, а общество появилось в нем сравнительно недавно — вероятно, несколько сотен тысяч лет тому назад человечество захватило свое «место под солнцем» у природного пространства и продолжает расширять его. Но как бы мы ни хотели и ни старались создать только искусственное пространство для жизни людей, все равно без естественного пространства пока обойтись у нас никак не получается. Без окружающего нас природного пространства мы как общественно-биологический вид просто не сможем существовать. Поэтому при рассмотрении мещанства как местного первобытного общества первостепенное значение для нас имеют присущие нам социобиологические качества. В связи с чем, выявляя причины возникновения первобытного общества, мы основное внимание уделим месту нахождения общества в природной среде, а также влиянию этой среды на формирование нашего первобытного общества.
В последнее время ряд ученых придает большое значение географическому месту развития людей. Некоторые современные ученые, называющие себя евразийцами, считают, что местом развития как явлением должна заниматься специальная наука — геософия, синтетически соединяющая географию и историю. Они пользуются новыми понятиями и терминами, среди которых категория «месторазвитие» призвана свести воедино начало географии и истории [Социально-философские воззрения евразийцев // Философия и общество. 1998. № 1. С. 182]. Как и дарвинисты, они также считают, что на разнообразие животного мира во многом влияет среда его обитания. Животные стараются приспособиться к своему месту жизни, а если в нем происходят изменения, то адаптироваться к переменам в окружающей их среде. Наиболее наглядно такая способность выражена у хамелеона, который может быстро изменять окраску кожи под влиянием внешних воздействий окружающей его среды обитания. Возможность приспособиться к изменениям окружающей среды обитания дает главный толчок для развития разнообразного животного мира в природе. Аналогичная, хоть и в меньшей степени, такая способность практически есть у всех видов животных, в том числе у человекообразных обезьян и современных людей.
Возможно, в случае происхождения человека от обезьяны возникла такая ситуация, которая позволяет нам предположить способствующие влияния места развития для осуществления такого преобразования. Если мы представим, что человечество появилось где-то в природном месте, то наверняка физические условия этого места оказывали свое воздействие на его развитие. С наибольшей вероятностью на роль научности в обосновании антропогенеза по-прежнему претендуют пока не связанные между собой две знаменитые концепции — это эволюционная теория Ч. Дарвина и трудовая теория К. Маркса. Мы попробуем объединить их, исходя из тех заключений, что Ч. Дарвин доказывает биологическую принадлежность человека к животному миру, а К. Маркс и Ф. Энгельс доказывают, что именно труд повлиял на физиологические изменения человекообразной обезьяны, превратив ее, в конечном счете, в современного человека. Соединив эти два научных исследования, мы на их стыке сможем представить, каким образом могли быть возможны изменения местных условий проживания человекообразных обезьян, чтобы они смогли повлиять на их адаптацию так, принудив их выполнять физическую работу. Тогда мы сможем ответить на вопрос: что заставило человекообразных обезьян перейти к новой трудовой деятельности, свойственной первобытному обществу?
Согласно теории Ч. Дарвина, человек — это биологическое существо, которое образовалось в пространстве живой природы. Соответственно, окружающая первобытного человека природная среда обитания во многом влияла на формирование его как члена социума.
Существование определенных природных изменений представляет собой воздействие на проживание людей в их ойкумене. Они могли повлиять на возникновение в месте среды обитания человекообразных обезьян сравнительно небольшого социума, который впоследствии, захватывая жизненно-пространственные территории у природы, стал представлять собой огромное современное социальное пространство.
В последнее время за рубежом появилась новая интерпретация эволюционной теории — «теории эволюции» Дарвина противопоставили «теорию пространства». Движущей силой эволюции явилась не борьба за выживание, как утверждал автор теории эволюции Ч. Дарвин, а наличие «жизненного пространства», сообщает BBC News. Об этом заявила группа ученых из Бристольского университета [Space is the final frontier for evolution, study claims // BBC News, 24.08.2010. Бристольский университет — официальный сайт http:// i-news.kz/news/2010/08/24/2763908.html]. Аспирантка Сарда Сахни (Sarda Sahney) и ее коллеги изучили останки животных, чтобы проследить эволюционные модели за последние 400 миллионов лет. Исследовав окаменелости земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, ученые пришли к выводу, что их биологическое многообразие тесно связано с имеющимся у них «пространством для жизни», более известным у биологов как «экологическая ниша». Она включает в себя такие факторы, как наличие еды и благоприятной окружающей среды обитания. Это исследование показывает, какие серьезные эволюционные изменения имели место при переходе животных в места, не занятые другими особями. «Например, соседствуя с динозаврами в течение 60 миллионов лет, млекопитающие так и не смогли вытеснить преобладающих рептилий. Однако, как только динозавры вымерли, млекопитающие быстро заполнили незанятую нишу и стали доминировать на Земле», — поясняет соавтор исследования профессор Майкл Бентон (Michael J. Benton). Согласно теории Дарвина, опубликованной в 1859 г., основной движущей силой эволюции является естественный отбор. Существование эволюции признано большинством ученых. Ватикан признал утверждение Дарвина о том, что люди произошли от обезьян, в феврале 2009 г.
Жизнь людей во многом связана с приспособлением к среде обитания и приспособлением среды обитания к себе. Приспособленный индивид с социобиологической точки зрения совершеннее неприспособленного. Ряд ученых-дарвинистов замечает в природной биологической системе много социального и решает адаптировать теорию Ч. Дарвина применительно к социологии. Дарвинизм как великая, всеобъемлющая биологическая система в своем применении к социологии, в перенесении, без всяких коррективов, биологических построений в общественную жизнь, на взгляд автора, все же подлежит осуждению. Сам Дарвин с большей осторожностью воспринимал применение биологических признаков в социологии, чем его последователи. Дарвинистская социология вполне догматично перенесла основы дарвинизма из биологии в общественную жизнь, утверждая, что наследственность и приспособление вполне определяют индивидуальность, что борьба за существование и отбор неизбежно ведут к вымиранию неприспособленных людей, в чем и заключается эволюция. В целом эти выводы выглядят не совсем состоятельно. Но то, что у человека существуют биологические свойства приспособления к окружающей среде, уже научно доказано, обосновано и никаких сомнений не вызывает, а то, что мы как животные поглощаем пищу и размножаемся, — это очевидно!
Считается, что «человек политически эмансипируется от религии тем, что изгоняет ее из сферы публичного права и переносит ее в сферу частного права. Она уже не является духом государства, где человек — хотя и в ограниченной степени, в особой форме и в особой сфере — ведет себя как родовое существо, в сообществе с другими людьми; она стала духом гражданского общества, сферы эгоизма, где царит bellum omnium contra omnes (война всех против всех)» [Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 392]. По Гоббсу, средства удовлетворения желаний, в общем, одни и те же для всех. Это естественно порождает столкновения между людьми и делает всех людей врагами. Таким образом, все люди по природе враги, и естественное состояние есть состояние всеобщей войны (bellum omnium contra omnes) [Маковельский А. Этико-политическая система Гоббса // Сб. ст. в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913. С. 106]. Ницше, издеваясь «над этической трусостью вульгарного просветителя Штрауса, предостерегает его от искушения строить правила практической морали на основе милого его сердцу дарвинизма, на законе bellum omnium contra omnes…» [Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Собр. соч.: в 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 361–362]. Н. К. Михайловский утверждал: «В природе идет вечная безустанная повсеместная борьба за существование. Природа — bellum omnium contra omnes. Ежеминутно совершаются в ней миллионы насильственных смертей, миллионы, с человеческой точки зрения, страшных и позорных преступлений» [Михайловский Н. К. Теория Дарвина и общественная наука // Соч.: в 6 т. 1870. Т. 1. С. 162]. Используя приведенные выше суждения, мы понимаем, что характерный признак существования и определения мещанства состоит в неразрывной связи занимаемого в пространстве места и жизни людей в нем. В живой дикой природе среди растений и животных идет постоянная борьба за территорию обитания, «место под солнцем», при этом свободные «экологические ниши» — места обитания животных практически сразу занимаются разными их видами, приспосабливающимися к условиям измененной местности.
Видный теоретик русского народничества, один из лучших представителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети XIX в. Н. К. Михайловский объявил борьбу этим широко популярным в 70-80-х гг. XIX в. дарвинистским теориям («Теория Дарвина и общественная наука», 1870; «Дарвинизм и оперетты Оффенбаха», 1870) и подверг критике буржуазный апологетический по отношению к капитализму характер органической теории Спенсера в социологии, переносящей законы дарвинизма на общественные явления, в то же время в своем «опровержении» дарвинизма вступил в противоречие с собственной аргументацией. Он переносил элементы своего субъективного метода в само естествознание и в своей борьбе с марксизмом трактовал теорию пролетариата как разновидность обычной внутрибуржуазной борьбы, согласно его объективному методу написанной социологии. Михайловский справедливо утверждал, что признак приспособления в социологии в виде конформизма свойствен буржуазной идеологии и применим к мещанству. Более того, по его мнению, не только дарвинистская социология — идеология буржуазии, но и сам Ч. Дарвин — «гениальный буржуанатуралист». В связи с чем философия природы по концепции дарвинизма, по мнению Михайловского, является господствующим мещанством, где оно представлено как «сплоченная посредственность», которая губит все, что так или иначе выходит за рамки нормы; в ней выживают не наиболее одаренные, а практичные типы и могут гибнуть идеальные. В узкобиологическом смысле у Михайловского «идеальный тип» есть тип политропный, многосторонний, а потому и не приспособившийся ни к каким специальным условиям и благодаря этому не способный к дальнейшей эволюции; «практический тип», наоборот, монотропен, односторонен, а потому и окончательно приспособлен к условиям жизни буржуазного общества.
Н. К. Михайловский признает, что «в природе бездна мещанского». Узкие, односторонние практические типы одерживают победу по всей линии над широкими, синтетическими, идеальными типами, тем не менее много причин не переносить это в социологию, примиряться с представителями практического типа — с мещанами, заполнившими общественную жизнь. Мещанин, по мнению Михайловского, — это не личность, это «осколок личности», практический тип, приспособляющийся «ко всякой обстановке, как бы она ни была узка и душна», в то время как идеальный тип является полным, многосторонним, выходящим из тесных мещанских рамок. Он считает, что «практичный тип» как биологический термин в социологическом применении весьма удачно поясняет несколько расплывчатое понятие «мещанство», служит дальнейшему выяснению известных оснований развития человеческого общества. Мы видим, что в доводах Михайловского имеется рациональное звено, связывающее развитие биологического человеческого вида с потребительскими проявлениями практичных типов.
К тому же заметим, что процесс приспособления-преобразования обезьяны в человека, исходя только из климатических изменений на Земле, слишком стремительный, с точки зрения применяемой к нему чисто адаптационной эволюционной теории Ч. Дарвина невозможен. «Чтобы конкретно сориентироваться в длительности эволюционного процесса, мысленно перенесемся в мир конца третичного периода. От Южной Африки до Южной Америки через Европу и Азию — раздольные степи и густые леса. И среди этой бесконечной зелени мириады антилоп и зебровидных лошадей, разнообразные стада хоботных, олени. тигры, волки, лисицы, барсуки, совершенно похожие на нынешних. Эта природа настолько похожа на нашу, что мы усилием воли убеждаем себя в том, что нигде не поднимается дым из лагеря или деревни. И вдруг, спустя «планетарный миг», примерно тысячу лет, мы обнаруживаем человека. Что же случилось между последними слоями плиоцена, где еще нет человека, и следующим уровнем, где ошеломленный геолог находит первые обтесанные кварциты?» — задается вопросом Тейяр де Шарден [Цит. по изд.: Философия / под ред. В. П. Кохановского. Ростов н/Д., 1996. С. 222]. Народная мудрость гласит: «Дыма без огня не бывает». Может быть, огонь в виде «божественной силы» повлиял на превращение обезьяны в человека?