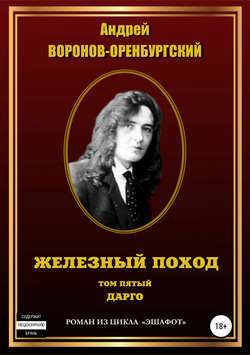Читать книгу Железный поход. Том пятый. Дарго - Андрей Воронов-Оренбургский - Страница 11
Глава 10
ОглавлениеМежду тем авангард генерала Белявского, как медведь, напоровшийся на рогатину, ввиду сильнейшего огня противника остановил наступление, перейдя к обороне. Но это был напрасный труд! Позиция русских войск была у горцев как на ладони и простреливалась подчистую. С лесистых склонов безостановочно грохотали тысячи ружей, свинцовым дождем исклевывая застрявшую в теснинах пехоту и кавалерию. Пули нещадно пронзали перебегавших от камня к камню людей, отрывали им руки, дырявили головы, ноги и груди. Мюриды, казалось, стреляли и с неба, и с земли: и снизу из оврагов, и с фронта из завалов, и сверху с гранитных зубцов и уступов скал. Это был ад кромешный! Кровавая бойня, безжалостное, методичное избиение попавшего в западню русского авангарда. В захваченном завале стояла такая жуть и смятение, что все бы закончилось паническим бегством, если бы люди знали, в каком направлении им бежать. Повсюду их поджидали ряды огнедышащих барьеров и раскаленных пожаром камней, нескончаемые ряды завалов и «волчьих ям» с забитыми в дно заостренными кольями… и решительно невозможно было определиться в этом кишащем месиве с направлением.
Генерал Белявский, теряя самообладание, был близок к самоубийству. Под ним были застрелены две лошади, на его глазах под жесточайшим перекрестным огнем в течение всего нескольких минут чеченцы перебили всю артиллерийскую прислугу, которой он приказал выдвинуть на большак, к котловине, горные орудия.
…Видел Константин Яковлевич, как в непосредственной близости от него был ранен двумя пулями в шею (с перебитием позвоночника) молодой исполнительный артиллерийский офицер Капитонов, командовавший взводом. Какое-то время он продолжал стоять в бессознательном состоянии; все члены его как будто окоченели, взгляд заострился, остекленел, и в этом ужасном виде он был подхвачен и отнесен в завал егерями53.
Опасаясь, что горцы захватят оставшиеся без прикрытия орудия, генерал Фок (находящийся в числе столичных дилетантов при Главной квартире) отважно, но бестолково бросился с несколькими гвардейцами к пушкам. В минуту все шестеро были перебиты, а Фок, пораженный сразу пятью пулями, крутнулся, как заведенный, два или три раза на месте и рухнул замертво.
Вся трагедия разыгралась на глазах полковника Дондукова-Корсакова, беспомощно лежавшего с простреленной ногой в завале, в трех саженях от этого места. В памяти князя застряла занозой последняя минута гибели генерал-майора Фока… Подбрасываемый пулями, тучный, как баварская пивная бочка, Фок, казалось, ловил и прижимал к груди непослушными руками далекую небесную синь… Его набрякшие болью глаза с испуганным изумлением низали окружающие предметы… Потом он навзничь распластался на лафете, и Александр мог видеть сквозь ветви чинары лишь полушарие его тугого дородного живота и край сизо-красной щеки; пышный бакенбард, ухоженный и холеный, теперь мертво колосился над задранным эполетом, на коем искрился золотым шитьем Государев вензель.
Катастрофу предотвратили подоспевшие в последний момент бравые кабардинцы. Раскатистое «ура» и новая волна штыковой атаки подхватили расстроенные ряды поредевшего авангарда и бросили его молодцов с оружием в гору, вышибая мюридов из их укрепленных и пристрелянных гнезд. Штурм этот был проделан с такой быстротой и лихостью, что премного искупил то отчаянное замешательство, которое постигло было дрогнувший духом авангард.
Вскоре литовцы, куринцы и кабардинцы были уже на горе, и рачительные саперы деловито приступили к расчистке дороги.
* * *
– Ляксандер Миха-а-алыч! Ляксандер Миха-а-а-алы-ыч!! Эге-ге-ей!
Князь вяло обернулся на знакомый голос. От потери крови мутила тошнота, и он, придерживая рукой пульсирующую болью ногу, грыз щепку, стараясь не потерять сознание. Сквозь подсвеченную солнцем пыль проглядывала, точно покрытая сусальным золотом, фигура верхового. Минута – и она обозначилась явственно: грязная, драная, вся в бурых рдяных пятнах, но… такая желанная и родная.
– Никита, сукин ты кот! – Сердце князя сжалось от прихлынувшего облегчения. Он, радостно и счастливо смеясь, погрозил кулаком своему ординарцу-телохранителю. – Где ж ты был, сволочь?
– Ваша светлость! Ляксандер Михалыч, вот радость-то, живы! Сыскались наконец! В штабу-то, поди, вычеркнули вас ужо из реестру, а я вот, честно слово, не верил, шоб, значит, погибли вы. Не такой кости вы человек!
Огромный казак Горского полка Никита Густомясов спрыгнул с коня; роясь на ходу в подсумке, достал моток белой тряпицы и принялся за перевязку.
– Эвон вас как посекли нехристи… Ну-к, дайте, ваше скобродие, гляну, где вас примолвили.
– Ты сам-то где кочевал, пустяковая душа? – кривясь от боли, подтрунил Корсак. – Где тебя черти носили? Никак струхнул, герой?
– Пошто за душу обидой хватаешь, барин? – басом прогудел казак. – У бокового завалу, мать их ети… татарин крепко задержал нас с подмогой. А опосля потерял я вас, Ляксандер Михалыч, в этой окрошке!.. Сами знаете, чой-т тут делалось… Уж где толички вас не искал, коня ушатал, пущал во все повода… Спину, кажись, гнедку насаднил. Беда…
– С абреком-то как у тебя обошлось? – прислушиваясь к отдаленной стрельбе, продолжал князь.
– С этим-то говном?.. Полюбовно, со всей увежливостью, – растянул в улыбке разбитые в кровь губы Никита. – Он, значит, пырнул меня, гад… трохи до горла не достал кинжалищем… Ну, тут уж и я его, джигита, без внимания не оставил. Поцеловал кулаком… пульки-то, мать их ети… допрежде расстрелял, акромя вот этих молотков. – Густомясов, на миг оторвавшись от перевязки, поднял свой огромный, полуаршинный кулак, весело заглядывая в глаза князю.
– Стало быть, приутюжил?
– Стал быть, так, ваша светлость. Насмерть. Вот, память оставил о себе абрек! – Казак шлепнул ладонью по широким ножнам чеченского кинжала, который украшал его пояс. – Бешеная порода – другого языку не понимат, язвить их в душу, поганцев. Эти гололобые не помилуют, сразу секим-башка! В лучшем случае, в яму забьют, подлюки, да колодки на ноги – это уж обязательно.
– Ты долго еще будешь копаться, болтун?
– Готово, ваша светлость. Теперича совладаете. Ну-кось, дайте руку! Поторопимся, не то к раздаче кухни не поспеем… Ишь, солнце уже на чинаре повисло.
У обгоревшего дуба, где были натянуты тенты лазарета и шла активная перевязка раненых, над папахами и штыками вновь прибывших из резерва егерей гремел надрывно-ржавый командный голос:
– Третья, четвертая роты, живо! Кто там комкает строй?… Равняйсь! Смирно! Нале-еву! Шагом марш! Подтянись, кубанцы!.. Веселей, казачество!
В клубах розово-белой пыли, прогромыхал седьмой батарейный взвод 2-й артиллерийской бригады. Ломовые битюги54 шли крупной тяжелой рысью. Ездовые яро размахивали плетьми, прикрикивая на лошадей, не позволяя тем забирать в сторону.
…Александр, опираясь на плечо ординарца, прикрыл от пыли лицо перчаткой. Движение войск шло непрерывным потоком. Лязг зарядных ящиков, натужный скрежет колес, захлебистое ржание лошадей, дребезжание лафетов, скрип седел, команды младших офицеров – все смешивалось и сбивалось с рокочущей в ущелье стрельбой и громовым гулом батарейных залпов.
– Да уж, державно наезжает наш брат на Дарги… – жмурясь от пыли, уважительно покачал головой Густомясов. – Ну, так оно и понятно, мать их ети, – Государева служба. Все тут нынче до кучи собрались: и славные казачки, и солдатушки, и дика дивизья… Однакось и нас сёдне на зуб попробовал Шамиль Иваныч. Не побрезгал. Слыхали, ваша светлость? Начальник убит… из Генерального штабу…
– Фок? – Александр устало прикрыл отяжелевшие веки. От потери крови его неодолимо клонило в сон, и уже почему-то далеким казалось то, что случилось там, при взятии завала.
– Про Фока врать не могу-с, а полковника Левинсона, гутарят, нашла чеченска пуля. Земля ему пухом…
* * *
Под одним из выгоревших добела тентов, где резко пахло нашатырем, гнилой кровью, карболкой и йодом, где под операционными рамами раскладных столов в забрызганных кровью латунных тазах валялись отрезанные кисти, пальцы и ступни, князь Дондуков-Корсаков нашел бедного Мельникова, которому уже удалили часть сальника, вышедшего из раны. Бледный, весь в зернистом поту, юнкер лежал на носилках, укрытый байковым одеялом с армейским черным клеймом, и морщился от озноба, гусившего его мокрую спину, живот и ноги. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, заострившиеся скулы, обыкновенно схваченные румянцем, теперь были серы.
– Павлуша… ты слышишь меня? Юнкер Мельников! Пашка-а! – Слезы зло защипали глаза Александра.
– Отставить, полковник! Будьте благоразумны. Ужели не видите, черт возьми, раненому нужен покой. Да уймитесь вы!
Князь, остановленный окриком подошедшего доктора, замер, издали глядя на Мельникова: на его мертвенную позу, на застывшие черты, принявшие лаконичную строгость, и пытаясь заметить хоть малейшее биение жизни в его теле.
– Это Пашка, майор! Понимаете, Пашка… мой лучший университетский друг! Мы с ним… Как он, майор? Он будет жить?!
Полковой доктор Абрамов, облаченный поверх мундира в белый, ухлестанный кровью балахон, устало сказал:
– Для меня все едины, полковник. Я сделал, что мог. Остальное зависит от него самого… и Господа Бога.
– Благодарю, майор. Я все понимаю. Прошу покорно извинить. Честь имею.
Князь склонил голову, и ему сделалось неловко от проявленной слабости. Глядя на Сыча (так солдаты окрестили скупого на слова доктора), на его тускло желтевшую осенним листом плешь, на его руки, которые что ни день спасали чью-нибудь жизнь и которые, как казалось, с рождения пахли порошками и мазями, Александр вдруг почувствовал, что для этого человека старые, с детства знакомые каждому слова – жизнь и смерть, болезнь и здоровье – полны глубокого смысла.
– Я вижу, вы тоже ранены, полковник. – Александр Геннадьевич воззрился на перевязанную ногу князя. Под пенсне озабоченно блеснули темные глаза майора.
– Да я-то что… – хотел было с бравой легкомысленностью молодости отмахнуться Александр, но тут с носилок донеслось слабое:
– Корсак, ты?..
– Пашка! – Князь, забыв о ранении, устремился к другу. – Ну как ты, красавец? – криком вырвалось у него, когда он склонился над Мельниковым.
– Конь мой… Цезарь где?
– Цел твой Цезарь, брат. Еще послужит тебе. Никита с казаками отловили его у завала вместе с моим Шутом, как только егеря выбили тавлинцев. Ты сам-то как?! Мы ведь с князем Ираклием… грешным делом…
– Пустое, – горько усмехнулся Павел. В наступившей тишине отчетливо стало слышно его тяжелое и короткое дыхание. – Жаль, уж видно, боле не смогу принять тебя, Корсак, в своем имении… Помнишь, как угощались за милую душу?.. А какая из черной смородины наливка у нас – это ж… не выразить… до чего хороша и сладостна… Сашка, – Мельников остановившимся взглядом смотрел на князя, – мы все не сегодня-завтра умрем в этих чертовых горах, верно? Это наш эшафот, Саша… ведь так?
– Может, и так, братец, – хмуро ответил Александр, однако тут же встрепенулся и подмигнул другу: – Но лучше завтра помирать, чем сегодня. И вообще, что за разговоры, юнкер? Стыдно! Mauvais ton.55 Брось эту мерзкую ворожбу, Павлуша. Ты – русский офицер. Слышишь, не смей!
– Спасибо тебе за все… Будешь у нас, выпей уж за меня наливки. – Мельников снова умолк, и снова стало слышно его прерывистое хриплое дыхание. – Ты уж будь любезен, Корсак… – слабеющим голосом вновь выдохнул он, – черкни маменьке моей… так, мол, и так…
– Отпишу, братец, нынче же, как возьмем Дарго. Только ты еще сам поднимешься, вот крест. Ты только держись! Оставайся живым, Павлуша…
– И ты тоже… – с напряжением выдавил Мельников и уже почти беззвучно выдохнул: – Прощай.
Александр потрясенно смотрел на твердеющее лицо друга, из которого с каждым мгновением улетучивалась жизнь, обращая его в холодную бесстрастную маску.
– Пашка-а!
– Полковник! – Голос майора Абрамова был по-военному тверд и категоричен. – Отойдите! Грош цена вашим словам, князь. Похоже, вы ни черта не понимаете! Что вы себе позволяете? Вы хотите…
– Доктор!.. Но он же…
– Молчите!
– Так дайте, я хоть попрощаюсь с ним!..
– Ему этого уже не нужно!
– Мне нужно!! Мне!! Оставьте нас наконец в покое, майор!.. – Голос князя сел до напряженного шепота. Было видно – он сдерживается из последних сил: взгляд отливал хищным блеском булата наполовину извлеченного из ножен клинка.
– Да делайте, что хотите!.. Вы все с ума посходили, господа, на этой проклятой войне! Бог вам судья…
Майор круто зааршинил к палаткам лазарета, куда прислуга 3-го взвода санитарной роты Куринского полка то и дело доставляла с завалов все новых и новых раненых.
– Посторонись, ваш скобродие!
Два санитара-куринца, старый и молодой, буднично подхватили носилки и, верно, испытывая бытующее у солдат сильное чувство отвращения к месту, где был ранен-убит человек, без проволочек унесли тело юнкера Мельникова к сырым комьям братской могилы.
«Кончено, Корсак… В живот… зараза! Как знал…» – запоздалым эхом, как-то пугающе-веще прозвучали в памяти слова.
«Твою мать!.. Как же так, Павлуша?.. Ведь Сыч сказал, что рана обещает благополучный исход. Врал? – Александр промокнул платком лицо, стер копоть порохового нагара, стряхнул крошки древесного щепья, понабившиеся в усы и бакенбарды, и, продолжая видеть перед собой живое лицо друга, сказал про себя: – А вся беда из-за того, Павлуша, что тебя ежеминутно преследовала мысль о Голицыне, и ты, дурак, прости меня, Господи, убедил себя в своей смерти».
53
«Здесь в первый раз я наблюдал, что называется «tetanos» (столбняк)… […] Я видел сего офицера еще раз при отступлении из Дарго: его несли на носилках вроде кресел, так как голову он не мог наклонить вследствие раны; несчастный потерял всякую память, находился в полнейшем идиотизме и умер, кажется, на одном из переходов в Герзель-ауле» // Дондуков-Корсаков А. М. Мои воспоминания. 1845–1846.
54
Рабочая лошадь-тяжеловес крупной породы.
55
Дурной тон (фр.).