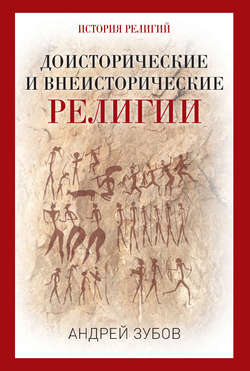Читать книгу Доисторические и внеисторические религии. История религий - Андрей Зубов - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лекция 1
Предмет и основные понятия истории религии
Что такое религия?
ОглавлениеСлово «религия» знакомо всем нам, как верующим, так и неверующим, знакомо так же, как и его русский эквивалент, слово вера. Что означают эти слова? Слово религия – religio – латинского происхождения. Означает оно – совестливость, благочестие, святость. К глубокой древности, к раннехристианскому латинскому мыслителю блаженному Августину (354–430) восходит объяснение смысла этого слова. Глагол ligo – связывать, привязывать и возвратный префикс re создают глагол religo – связываю развязанное, воссоединяю расторгнутое. Смысл этого слова ясен. Нечто было когда-то связано, потом связь прервалась. Религия – то, что связь эту восстанавливает, утверждает вновь. Наше слово «вера» тоже очень древнее. Уже в языке Авесты – священной книги древних иранцев, созданной за много столетий до Рождества Христова, – используется глагол var – верить, и существительное varəna – вера.
У индоариев, живших на пространствах великой Евразийской степи в III тысячелетии до Р. Х., тех индоариев, отдаленными потомками которых являются все почти народы современной Европы, один из самых чтимых богов носил имя Варуна. У очень многих народов, относящихся к индоевропейской языковой семье, слова с корнем var, ver обозначают понятия веры, честности, доблести, правдивости. Но корень этот тождествен двум другим древнейшим индоевропейским корням – вар – жар (отсюда русское – варить) и вервь – веревка, восходящему к древнеиндийскому varatra – слову с тем же самым значением. Подобно Августину мы можем предположить, что идея связи, а также идея жара, горячности, огня не чужды нашему слову вера. Вера – это не холодная механическая связь. Это единство, которого не достигнешь без горячего желания, без чрезвычайно сильной волевой устремленности.
Но что же связывается верой? Верой соединяются небо и земля, Бог и человек. Многие религии употребляют слово небо для обозначения высшей реальности. Но слово «небо» употребляется всегда символически. Это не голубовато-серое небо, по которому то плывут белые облачка, то клубятся черные грозовые тучи. Нет, словом небо наши далекие предки именовали и тот иной мир, в котором нет страданий и смерти, тоски и незнания, но в котором вечность, полнота, всемогущество и всеведение являются естественным состоянием. Тот мир, столь желанный для слабого человека, ограниченного в своем существовании кратким мигом лет между рождением и смертью, существовал всегда, и всегда будет существовать. Войти в него, стать частью его значило обрести его качества, его полноту и целостность. Но вот беда, тот мир отстоит от этого, как небо, по которому бегут облака и в котором сияют ночью звезды, отстоит от земли, по которой мы ходим.
Мы порой наивно думаем достичь неба с помощью каких-то технических средств, радуемся подъему в корзине воздушного шара, гондоле дирижабля, салоне современного авиалайнера. Мы следим за полетами в космос и не всегда замечаем, что небо так же далеко от нас, как и в тот миг прошлого, когда наш предок, чуть-чуть разогнув спину, впервые с тоской и надеждой взглянул на звезды ночи. Мы прошли сквозь облака, мы вышли за пределы стратосферы в открытый космос, но все так же далеки от нас звезды небесные, и, зная безграничность вселенной, ясно сознаем мы, что никогда и никто не достигнет края ее никакими техническими средствами. Небо и для нас остается образом недостижимости.
«Две вещи неизменно вызывают мое изумление, – сказал когда-то великий немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804), – звездное небо над моей головой и моральный закон во мне». И действительно, внимательное вглядывание в себя обнаруживает во внутреннем мире удивительные бытийные антиномии, позволяющие верующим людям утверждать, что духовное небо находится не только бесконечно далеко от нас, но и в нас самих. Например, каждый человек прекрасно знает, что он смертен. Он имеет личные опыты смерти близких ему, дорогих людей. На вопрос, умрет ли он, каждый, безусловно, ответит утвердительно. И все же в глубине сердца живет у каждого человека твердая убежденность в своем бессмертии. Каждый из нас, хотя может умереть в следующую секунду (несчастный случай, террористический акт, сердечный приступ), живет свою жизнь так, как будто бы он не умрет никогда. Зная нашу смертность, мы живем с жаждой бессмертия и с опытом его возможности, заключенным глубоко в нашей душе.
Подобным же образом все мы живем в нашем жестоком мире, полном борющихся между собой себялюбий и эгоизмов, с неугасающим стремлением к любви и единству, к настоящей дружбе, настоящему супружеству, настоящему сотрудничеству, настоящей жертвенности. Мы не можем не соглашаться с горькими словами поэта: «Все на земле умрет – и мать, и младость, жена изменит и покинет друг…» (А. Блок. 7 сентября 1909 г.) – и при этом продолжаем мечтать и неутомимо искать любовь и дружбу до гроба. «Все мы живем ожиданием счастливой встречи», – говорит один из героев рассказа Ивана Бунина «В Париже». И ведь не только в личных отношениях живет эта мечта. Сколько существует человечество, народы воюют и царства восстают одно на другое. В жестоком самоослеплении люди даже не желают видеть человека во враге и радостно считают потери противника в «живой силе». ХХ век дал самые ужасные примеры человеческого антагонизма и безумия взаимной ненависти, выразившиеся в бессмысленном уничтожении целых народов и общественных классов другими народами и классами. Но при этом страшном опыте все народы жаждут мира и сотрудничества, и нет более желанного вестника, чем вестник с оливковой ветвью в руках, несущий весть о конце войны и восстановлении мира. Даже язык нам подсказывает, что война и ссора – аномалия, а мир и дружба – норма для человека. Войны и ссоры, хотя большая часть времени человечества прошла именно в войнах и ссорах, всегда неожиданно разражаются, а мир, сколь бы кратковременен он ни был, неизменно восстанавливается. Мы живем с опытом вечного разлада и с вечным же алканием мира. И это еще один опыт вечной экзистенциальной антиномии между сущим и должным.
И, наконец, та же антиномия присутствует и внутри нас. Если первая антиномия, антиномия смертности, относится к бытийным основаниям мира, вторая, антиномия разлада, к его социальным основаниям, то третья, антиномия того самого Кантова морального закона (нравственного императива), имеет отношение к основаниям личностным. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» [Рим. 7,19], – восклицает в послании к Римлянам апостол Павел. И этот опыт имеет каждый из нас. Мы все стремимся к высокому и светлому, «к делу честному, ко всему большому и прекрасному», как поется в одной из песен русских скаутов-разведчиков, а в действительности делаем много низкого, гнусного, лживого. Если же от действий перейти к мыслям, то там, в сокровенных тайниках сердца, найдем мы, если только не разучились заглядывать в себя, такую помойку, что и думать противно. Хотим быть достойными, а живем недостойно, хотим быть совершенными, а ежеминутно творим и помышляем всяческие непотребства. «Бедный я человек!…» [Рим. 7,24].[1]
Но значит ли это, что человеку надо примириться со своей земной судьбой, со своей слабостью, со своей смертностью? Забыть о небе, о совершенстве и сосредоточить внимание на земле, постараться хотя бы немного облегчить эту временную жизнь, уменьшить страдания болезней, ужасы войн, чуть-чуть отсрочить смерть? Многие так думают сейчас, были такие люди и в древности. Большинство из них утверждают, что иного мира, где нет смерти, разобщенности и страдания, просто не существует. Древние индийцы так и называли своих неверующих соплеменников: настики – от na-asti – «нет иного <мира>». Но подавляющее большинство людей в прошлом, да пожалуй, и теперь, так или иначе, используя различные средства и способы, веря в существование иного мира, совершенного и вечного бытия, стремятся и надеются его достичь. Бытие это философы именуют Абсолютом, а сами верующие в большинстве традиций и на разных языках – Богом.
Религия – это и есть способ или совокупность способов достижения человеком Бога, смертным – бессмертного, несовершенным – совершенного, расколотым – целостного, временным – вечного. Потому-то слово «религия» и восходит к слову «связь».
В нашем современном значении слово вера противоположно слову знание. Мы никогда не скажем «я верю в существование соседнего дома» или «я верю, что рядом со мной за столом сидит Ваня». Мы знаем, что рядом с нашим домом есть и соседний и что имя моего соседа по столу в классе – Иван. Мы можем познавать законы природы и общества, мы не сомневаемся, что даже неизвестное сегодня будет понято в будущем. Но мы не всегда задумываемся, в чем источник нашей убежденности в познаваемости мира. А причина познаваемости мира в том, что мы – его часть. Равное себе и низшее себя познать всегда можно. И человек, и камень состоят из материи. Но камень – это материя, не сознающая себя, а человек – сознающая. Камень познать себя не может, а человек может познать и себя, и камень. Человек изучает и живую, и неживую природу и самого себя. Этим занимаются естественные и социальные науки, психология, философия.
Но если представить себе, что есть Бог, то как можно надеяться изучить Его? Ведь Его природа абсолютна, Он создал нас и весь мир. Может ли созданное понять Создателя? Может ли временное и ограниченное понять То, что существует вне времени и пространства? Законы познания бессильны перед Богом. Потому-то человек верит в Бога. Вера – это иная форма отношений, нежели знание. Вера требует от человека волевого усилия, направленного к объекту веры. На знание соглашаться не надо. Знание объективно. Соседний дом и сосед по парте познаются нами помимо нашей воли. Но вера поддерживается только волевым усилием, только желанием верующего, ибо такова природа Бога, что Он не может быть нами объективно познан, как Им сотворенные формы нашего мира. «Доказательство бытия Бога, – писал один из глубокомысленнейших французов граф Жозеф де Местр, – предшествует доказательству Его атрибутов, и потому мы познаем, что Он есть прежде, чем познать, что Он есть. Более того, последнее мы никогда и не сумеем познать вполне».[2]
Вера, как сказано в одном древнем христианском тексте, «действует любовью» [Гал. 5, 6], поскольку волевое усилие верить из всех земных подобий больше всего напоминает любовь. Мы не можем объяснить, почему мы любим, почему влюбляемся именно в этого человека. Мы любим не потому, что до всех тонкостей познали любимого, но скорее наоборот – познание объекта любви приходит постепенно, с усилением нашего чувства. «И эта прежняя, простая, уже другая, уж не та», – сказал о познании через любовь Александр Блок.
Но в любой земной любви какое-то предварительное знание все же необходимо. Иначе в любви божественной, ведь Творец не может быть познан теми, кого Он сотворил. И потому, по точному определению французского мыслителя Блеза Паскаля (1623–1662), «человеческие дела нужно познавать, чтобы их любить; божественные нужно любить, чтобы их познавать» [Pensees. 1, 156. 30–31]. Это напряженно-волевое, любовное устремление к Богу и заставило, должно быть, наших древних арийских предков уподобить отношения человека с его Творцом жару и наименовать словами var, ver – вера.
Как рассказывать о религии? Представим себе ученого XVI века, описывающего плавания в недавно открытую Америку, но уверенного при этом, что никакой Америки на самом деле не существует. Все рассказы путешественников он объяснит ошибкой, миражом, болезненными галлюцинациями, порожденными слишком горячим желанием ступить на землю мифического Нового Света. Подобно этому и ученый, не признающий существования объекта религиозных стремлений, отрицающий Бога, многообразный религиозный опыт человечества сводит к более или менее возвышенному самообману, к заблуждению, а иногда и к сознательному обману священнослужителями народа. Так еще совсем недавно объяснялась сущность религии большинством европейских религиеведов,[3] так объяснялась она в советской как средней, так и высшей школе.
В случае с Америкой всегда можно поставить эксперимент – отправиться в плавание и проверить на деле, есть ли за тридцатым градусом к западу от Гринвича новый материк или нет. При всех трудностях и опасностях заморские путешествия стали делом вполне осуществимым с эпохи Колумба и Америго Веспуччи. Но Бог – объект иного рода, чем новый континент. Чтобы Его познать, Его надо сначала полюбить, иначе говоря, поверить в Него.
В сущности, все люди делятся не на тех, которые знают, что Бога нет, и на тех, которые знают, что Бог есть, но на любящих Бога и потому знающих о Его существовании, и на не любящих Бога и потому Его существование не признающих.
Есть ли Тот, Кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит – да.
(Иван Бунин, 9 июля 1918 года)
А если в сердце нет любви к Богу и веры в Него, то пусть в нем будет хотя бы внимательное, уважительное отношение к опыту тех, кто на корабле веры смог свершить путь от земли до неба и опытно познать абсолютное божественное бытие. Опыт этот и есть предмет науки религиеведения. «Религии существуют, дабы помочь человеку узреть божественный свет», – писал великий британский историк Арнольд Тойнби (1889–1975),[4] а наука религиеведения изучает, как люди достигают прозрения и что они видят в этом свете.
1
О бытийных антиномиях личности можно прочесть в одном из лучших русских современных учебников по философии: С. А. Левицкий. Основы органического мировоззрения // С. А. Левицкий. Свобода и ответственность. М.: Посев, 2003. – С. 177–265.
2
Ж. де Местр. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998. – С. 445.
3
О теориях происхождения религии смотрите, в частности, книгу выдающегося британского антрополога и религиеведа Эдварда Эванса-Притчарда «Теории примитивной религии» (Edward E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion. Oxford, 1965). М., ОГИ, 2004.
4
А. Тойнби. Постижение истории. Москва: Прогресс, 1991. – С. 526.