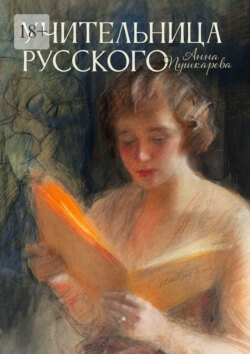Читать книгу Учительница русского - Анна Пушкарева - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеИнтересно, а помнил ли сейчас хоть кто-нибудь, что улица эта называлась в изначальную бытность свою Тобизеновской? А сейчас носит имя певца русской революции Максима Горького. Все четко, ясно и понятно в этом названии: зачинщики переименования хотели отдать дань советскому писателю, придумавшему Буревестника, как будто Алёша Пешков сам из ниоткуда создал этот образ…
А Тобизеновская что же? Варвара и сама не знала, откуда есть пошло такое наименование: то ли был некто Тобизенов, причастный к строительству Новониколаевска, то ли это старое название чего-то, что вместе с названием улицы кануло в лету? И все-таки слышалось что-то таинственное, волшебное в этом Тобизеновском: маленькой, Варе представлялось, что где-то в конце этой улицы зреет сказочная ягода или цветёт Аленький цветочек, – только вот где конец этой улицы, никто и не знал. Девочка никак не могла отыскать его, этот чудный уголок, но от этого не переставала своим детским сердцем верить, что он непременно где-то существует, и там творятся самые что ни на есть волшебные дела.
Воспоминания против воли захватили Варю, понесли, но она не могла позволить себе погрузиться в них, а только лишь боязливо озиралась в поисках тех, кто мог бы ненароком прочитать её мысли. Снова это гнетущее чувство, что за ней кто-то постоянно приглядывает и что нельзя думать собственные мысли, не вызывая подозрений. Это чувство жило в ней со дня ареста бабушки. А в чем, собственно, провинилась её бабушка?
Ну да, была она непростого нрава, не из степенных старушек, да и старушкой её вряд ли можно было назвать из-за её вечно приподнятого настроения и неиссякаемой веры в лучшее. Даже когда её арестовывали, она, прихватив свой ридикюль, потрепала перепуганную Варвару за щёку и заявила, глядя в полные непонимания и отчаяния глаза внучки: «Выше нос, мы скоро встретимся!» Здесь оптимистичная бабушка проиграла чрезвычайке, и её обещание застыло в вечности.
Она была очень образованной и в высшей степени воспитанной, и её детская взбалмошность ни разу не перешагнула границ дозволенного. Она постоянно о чём-то рассказывала, придумывала небылицы, которые так нравились Варваре. Даже сплетни в её устах не выглядели злобным карающим мечом, – она всё умела превратить в забавный, а порой и назидательный анекдот. А как она считала! Эта хваткость ума относительно математических операций не передалась Варе. Казалось, бабушка была последней, кто вкусил наследие купеческой семьи: Варе оставалось лишь диву даваться, какие сложные математические вычисления бабушка играючи совершала в уме, – современным счетоводам, до смерти зависимым от листика бумаги и счётов, было чему поучиться у этой старушки.
Так они и гуляли втроём по улицам Новониколаевска: Евдокия Лукинична со своим ридикюлем, в котором помещалось удивительное количество вещиц, начиная от платков и заканчивая флакончиком нюхательной соли, который бабушка таскала с собой с завидной регулярностью, как будто каждый день собиралась падать в обморок. Знавший бабушку простой люд втайне посмеивался над её странностями. Видно, еще в юности ей внушили, что у барышень обязательно должен быть с собой такой пузырёк, и она пронесла эту уверенность через всю жизнь, хотя уж и мода на обмороки-то давным-давно прошла.
Соль резко ударяла в нос запахом лаванды – цветка, чуждого в этих краях. Бабушка и не заметила, как сама стала чужой в новой реальности, раздавившей и перетеревшей в пыль её общественный класс. Ксения, подруга детства Вари вообще происходила из элиты, из семьи инженера железных дорог, который трудился в бригаде Константина Михайловского по возведению моста через Обь.
Её дед был из дворян, воспитывался в первом кадетском корпусе, затем учился в Михайловском артиллерийском училище. По его окончании в 1853 году сразу попал на Крымскую войну, позже служил в Санкт-Петербургском арсенале. После пяти лет службы в артиллерии поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. Но, очевидно, более военной карьеры, его увлекала другая стезя. Ещё учась в академии, он вольнослушателем посещал лекции по математике в Петербургском университете, а по окончании академии поступил в Институт Корпуса путей сообщения, закончив который поступил в распоряжение Корпуса инженеров путей сообщения.
Любовь к инженерному делу дед передал и своему сыну, Ксюшиному отцу. Историю своей семьи Ксения знала наизусть, и лишь природная скромность не позволяла ей с гордостью цитировать жизненный путь предков, хотя все основания для цитат у неё были.
Когда они втроём, словно лебёдушки, плыли по Тобизеновской, одиннадцатилетняя Варвара, нет-нет, да и просила ровесницу Ксению рассказать о её славной семье или поговорить по-немецки. Ксения прекрасно говорила на этом языке, как, впрочем, и бабушка, которой посчастливилось, по прихоти её состоятельных родителей, иметь няньку-немку. Варваре оставалось лишь догонять, слушать и всасывать в себя немецкий язык, подобно морской губке, и, в конце концов, она научилась довольно сносно на нём изъясняться.
«Как странно теперь все перевернулось: теперь я напрашиваюсь в гувернантки к иностранцам! Может быть, это неплохо, если есть спрос на русский язык, – успокаивала себя Варвара. – Да я ведь и не служанка! Я – учитель! Сейчас ведь всё совершенно по-другому называется!»
Наверное, стоит поторопиться, а не глазеть на статую Молотобойца, не думать о том, что каких-то двадцать лет назад она девочкой присутствовала вместе с бабушкой и Ксенией на торжественном освящении часовни, которая стояла на этом самом месте и, хоть и была крошечной, сердечно приняла в своих стенах всех, кто хотел с благоговением приложиться к иконе Николая Чудотворца, присланную в дар епископом Томским и Алтайским Анатолием. Надо же, как цепко сохранила в себе всё детская память! Часовня была построена на народные средства, у железнодорожного начальства был выхлопотан бесплатный провоз колоколов от места литья до нового храма, а праздновали в тот год 300-летие правления Романовых.
Варя помнила, какой торжественностью тогда было полно её маленькое сердечко, приближалось Рождество, зима стояла пышная, с морозцем, и ей так не терпелось попасть внутрь часовни, чтобы погреть свой носик. Икона была украшена еловыми ветками, с маленькими посеребрёнными шишечками, и, слегка прикоснувшись к ней губами, девочка почувствовала как будто долгожданное тёплое дыхание, которое отогрело ей щёки и заиндевевший кончик носа. Отрываться от иконы не хотелось, но сзади поддавливали, напирали люди, и бабушка осмотрительно вывела девочек наружу.
Темное небо, несмотря на свой насыщенный черничный цвет, высоким куполом вздымалось над головой, звёзд было не видно, вместо них падали на варежку хрупкие кристаллики снежинок, которыми Вареньке хотелось полакомиться. А Ксенечке хотелось вдеть их в ушки, словно серёжки, – совсем как у её красивой матушки.
Ходить по городу вечером никто не боялся, – от снежного покрова поднималось как будто свечение, и умиротворение разливалось в детской душе при виде этих творожных сугробов, залитых сверху черничным варением. Можно было до самой поздней ночи кататься на салазках, пока бабушка ни командовала, что пора ложиться спать. С улицы – и сразу в тёплую постель, на бабушкину перину, в купеческие подушки, набитые лебяжьим пухом, сложённые одна на другую в виде огромной башни или десерта и накрытые полупрозрачным тягучим тюлем.
Потом им внушили, что жить так стыдно, совестно купаться в пуху, если этого пуха нет у всех, и Варя умом всё это поняла, приняла и готова была со всем этим расстаться ради всеобщего блага. Но у неё, кроме пуха, забрали сначала Ксению. Ксения держалась, рассказывая, каким-то, правда, сразу выцветшим голосом, что отца переводят на какой-то строительный объект под Салехард, а Варя не понимала, почему вдруг так далеко, но молчала об этом. «Нас перебрасывают по Оби!» – это, казалось, было единственной радостью девушки в сложившихся обстоятельствах.
– Насмотришься новых, красивых пейзажей! – поддержала Варвара.
Подруги условились писать друг другу, семья Вари не собиралась сниматься с места, а адрес Ксения знала наизусть. Но ни одного письма так и не пришло, и о причине такого молчания Варе со временем все страшнее было думать. Она вдруг стала сомневаться, а был ли вообще Салехард, было ли долгое путешествие по Оби, были ли новые пейзажи? В городе ходили слухи, что людей расстреливают без суда и следствия, расстреливают семьями, как стаи бродячих собак, вместе с детьми, в оврагах на выезде из города, а тела их топят в Оби, привязывая к ногам большие булыжники. Бабушка категорически отказывалась в это верить и Варе запрещала, – она была воспитана с верой в людей, в их доброе начало и высокое предназначение. Ну не могла она допустить мысли, что люди настолько опоскудились и потеряли человеческий облик, что хладнокровно стреляют друг друга из револьверов.
В 20-м году переименовали Тобизеновскую улицу, и ждать писем от Ксении теперь вовсе не приходилось. С какой любовью, с какой поэтикой назывались раньше улицы: Вознесенская, Покровская, Спасская. Была у них и Дворцовая, и Офицерская, и Кабинетская. На Николаевском проспекте летом из открытых окон лились вполне недурные сонаты, а однажды Варя услышала Первый фортепианный концерт Чайковского и была поражена до глубины души, до немоты, до паралича всех членов: стояла и слушала клавиши и струны (кто-то исполнял дуэтом), и сердце её то танцевало, то ликовало, то плакало, то обливалось кровью в груди. Варя отчего-то была уверена, что Пётр Ильич сочинил это своё произведение, глядя на летнее, ликующее и торжествующее, небо с быстро летящими по нему белоснежными громадами облаков.
Позже она упросила бабушку сводить их в театр «Альгамбра» на концерт симфонического оркестра, который в тот вечер исполнил это произведение, и Варя впервые услышала его с участием всех инструментов. Она сидела с мокрыми от слёз щеками и, помнится, Ксения, понимающе улыбаясь, потому что испытывала тот же трепет, что и подруга, протянула ей свой носовой платок.
А потом стало тихо и мёртво на улицах, погасли звуки музыки, инструменты оказались разбиты или закинуты на чердаки. Вместо них иногда слышалась перебранка или пьяная ругань вперемешку со смачными плевками.
Потом арестовали бабушку. Варваре хотелось броситься вслед и кулаками бить в спины этих противных мужиков, которые так нагло и брезгливо хватали за локти бабушку, её бабулю, которая с рождения была подле неё, рассказывая свои добрые сказки и забавные анекдоты, которая вытащила Варю из всех детских простуд, обучала её хорошим манерам и быть приветливой даже с домашним скотом, учила вязать и рукодельничать… С которой они прошагали рядышком столько километров, с которой секретничали, с которой так много смеялись. Несмотря на всегдашнюю близость и расположение бабушки, Варя не всегда решалась взять её под локоток и только с величайшего соизволения… а тут… какие-то неотесанные мужики таскали её бабулю из стороны в сторону, перебрасывая друг другу её легкую фигурку, словно какую-то вещь, а не живого человека…
Мать зажала между своих плеч голову своей Варварки, подавляя стон, готовый вырваться из юной груди. И Варя, словно почувствовав что-то, какую-то невысказанную мольбу, осталась нема и беззвучна. «Надо жить дальше, – сказала ей впоследствии мама. – А чтобы жить дальше, нужно уметь забывать. И держать язык за зубами, даже если очень больно». Вокруг оставалось всё меньше людей, которых Варя любила и которым могла доверять. В сущности, никого, кроме мамы, да и та взяла в их отношениях какую-то прохладную ноту, чтобы не делиться сокровенным и как можно меньше знать друг о друге. Не полезно это.
В 30-м году снесли часовню Николая Чудотворца, и на ее месте водрузили мускулистую фигуру Молотобойца, кузнеца нового счастья…