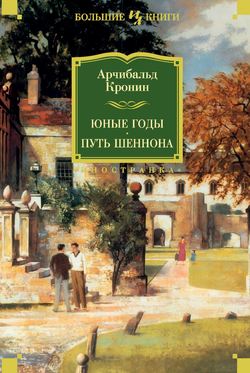Читать книгу Юные годы. Путь Шеннона - Арчибалд Кронин - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юные годы
Часть первая
Глава 10
ОглавлениеНастал июль, а с ним летние каникулы и дни, овеваемые жарким ветром, колыхавшим зреющую кукурузу. Мы с Гэвином бегали босиком за поливочной машиной по дорогам драмбакской деревушки, покрытым еще теплой, только что прибитой водой пылью. Мы взбирались с ним на самую высокую вершину Гаршейк-хилла и собирали там чернику, которую мама с благодарностью принимала, а потом делала из нее джем, куда более вкусный, чем наше обычное варенье из ревеня. Мы купались у мельничной запруды; там, разрезая руками прохладную воду, я сделал свой первый заплыв через самое глубокое место, а потом подставил голову под маленький водопадик, и вода попадала мне в рот, в нос, а вокруг моих ног, взвиваясь с песчаного дна, стайками кружились пескари. От восторга я звонко, возбужденно рассмеялся. До чего же хороша холодная вода! Она словно смывала последние следы печали с моей души. Мы вылезли на берег и принялись прыгать, плясать, потом бросились на траву и, замирая от наслаждения, залюбовались ярко-синим небом. Какая радость! Чистый, мягкий, теплый воздух, яркий свет, зелень деревьев, и силы пробуждаются во мне – радость жизни, величайшая радость бытия!
Я был счастлив, безмерно счастлив этой языческой жизнью. Ветер, напоенный ароматом вереска, выветрил Бога из моей головы: открытки, которые присылала мне бабушка, я едва удостаивал внимания; я больше не бросал вызов нечистому выйти из какого-нибудь темного угла, а сразу засыпал, едва успев пробормотать самую короткую молитву. Да, я отвернулся от Бога. И небо готовило мне новые испытания.
Прежде всего пришло известие о том, что мне предстоит вновь расстаться с Гэвином. Каждое лето его отец снимал в Пертшире домик с небольшим заболоченным участком, где можно было поудить рыбу и поохотиться, – еще одна роскошь, за которую впоследствии обрушат хулу на голову этого олимпийского божества! – и Гэвин, конечно, проводил там летние каникулы среди багряно-красного вереска и синих далеких гор.
Мисс Джулия Блейр не раз более чем прозрачно намекала на то, что я мог бы поехать с ним, но мой жалкий гардероб, стоимость железнодорожного билета и другие соображения, напоминающие о суровой действительности, заставили эту добрую душу умолкнуть. Мы с Гэвином попрощались на вокзале; глаза наши при этом подозрительно блестели, а руки сплелись в пожатии, крепком как сталь, которым мы, по-особому перекрестив большие пальцы, как бы скрепляли нашу дружбу на веки вечные.
Затем, когда я возвращался домой по Главной улице, на меня свалилась другая неожиданность – точно гром ударил среди ясного неба, и на пути моем внезапно выросло препятствие. Я посмотрел вверх и, содрогнувшись от несказанного ужаса, увидел перед собой высокую черную фигуру каноника Роша, который, опираясь на огромный зонтик, пронзал меня темным немигающим взглядом василиска, – в такой же ужас повергаю я, наверно, крошечную мошку, попавшую под мой микроскоп.
Каноник был одним из самых примечательных людей в городе, однако до сих пор мне ловко удавалось избегать встреч с ним. Он был молодой – самый молодой каноник в епархии. Лицо у него было тонкое, с горбатым носом и высоким лбом, говорившим об уме, наличие которого более чем достаточно подтверждало успешное окончание особого колледжа в Риме. Он получил весьма запущенный приход церкви Святых ангелов с паствой, которую трудно было держать в узде, поскольку состояла она из нескольких национальностей: тут были и поляки, и литовцы, и словаки, и ирландцы, которые в разное время переселились в город, привлеченные возможностью получить работу и хорошими заработками на Котельном заводе. Каноник быстро смекнул, что существует только одно оружие, с помощью которого можно держать в повиновении этих непокорных, темных прихожан. И он, не раздумывая, решил им воспользоваться. С суровостью, отнюдь не свойственной его натуре, он метал громы и молнии с высоты своей кафедры, допекал свою паству насмешкой на паперти, останавливал прихожан на улице и отчитывал при всех. За год он привел к повиновению своих прихожан, заслужил расположение братьев Маршалл, владельцев завода, и завоевал уважение, которое выражала ему, правда сквозь зубы, наиболее либеральная часть городских властей, – дело весьма нелегкое в маленьком шотландском городке, где католиков ненавидели и презирали. Как ни удивительно, он сумел внушить своим прихожанам не только трепет, но и восхищение. Ужас, ей-богу, священный ужас вселял в вас этот каноник, да благословит и да изничтожит его Господь!
Ничего нет поэтому удивительного, что, хотя тон его на сей раз и был мягок, я задрожал от одного сознания, что такой человек подошел именно ко мне.
– Ты Роберт Шеннон, не так ли?
– Да, отец.
И как у меня вырвалось это «отец» – ведь я выдал себя. Он слегка улыбнулся.
– И ты, конечно, католик?
– Да, отец.
Он принялся складывать свой широкий зонт.
– Я получил письмо насчет тебя от одного коллеги из Дублина… отца Шенли… Он просил разыскать тебя. – Каноник кинул на меня быстрый взгляд. – Ты, конечно, ходишь к мессе по воскресеньям?
Я потупился. Я ведь уже немало выстрадал от своей приверженности Римско-католической церкви: на моем челе была ее мета, но здесь, в Ливенфорде, я был одинок и слишком застенчив, чтобы отважиться посетить ее храм.
– Ага! – Сколько хлопот доставляет ему этот зонтик! – Ты, конечно, уже принял первое причастие?
– Нет, отец.
– Но уж первая-то исповедь у тебя, во всяком случае, была.
Болезнь моих родителей помешала мне в свое время выполнить это величайшее из обязательств, и сейчас мне было так стыдно, что я был бы рад сквозь землю провалиться.
– Нет, отец.
– Вот как. Печальное упущение для молодого человека, носящего фамилию Шеннон. Надо это исправить, Роберт. Мигом исправить, надеюсь, ты простишь мне это выражение, которое ты, конечно, тоже никогда не назовешь остроумным, и уж скорее оно пристало пастырю Епископальной церкви, чем мне, недостойному!
Почему он улыбается? Почему не мечет громы и молнии? А у меня глаза были на мокром месте: надо же, Гэвин уехал и теперь еще это стряслось! К тому же я сознавал, что прохожие, особенно многочисленные в это обеденное время, с любопытством поглядывают на нас. Скоро молва о нашей встрече распространится по всему городу, товарищи по школе снова отвернутся от меня, да и в «Ломонд Вью» все пойдет кувырком.
– С будущего месяца у нас в монастыре начнутся беседы с теми, кто готовится к первому причастию. По вторникам и четвергам после четырех часов дня. Это, право, очень удобно. Вести занятия будет мать Элизабет-Джозефина… Я думаю, она тебе понравится, если ты придешь. – Он с улыбкой посмотрел на меня своими строгими черными глазами. – Ну так как же, Роберт, придешь?
– Да, отец, – пробормотал я, с трудом шевеля непослушными губами.
– Вот умница. – Наконец он оставил свой зонтик в покое, хотя так и не сумел толком свернуть его. Во всяком случае, теперь каноник благосклонно поглядывал на меня и, поучая, вертел зонтиком то в одну сторону, то в другую. Завершил он свое краткое поучение следующим советом: – Еще одно, Роберт, и очень важное, хотя тебе это и нелегко будет выполнить, поскольку ты живешь с родными, не принадлежащими к нашей Католической церкви. Не ешь мясо по пятницам. Это строжайше запрещено Церковью. Так что запомни… ни кусочка мяса по пятницам. – Он в последний раз посмотрел на меня своими суровыми и в то же время добрыми глазами и ушел.
А я поплелся в противоположном направлении, все еще потрясенный этой злополучной встречей. Я был уничтожен, пойман и осужден за мои преступления. Яркий сверкающий день словно померк. Но ни секунды я не думал о том, что могу ослушаться каноника. Нет, нет, теперь он будет следить за мной; слишком уж он близко – он может возникнуть предо мной в любую минуту во всем величии своей духовной и мирской власти – и слишком он страшен, чтобы можно было ему не повиноваться. В один миг точно ураганом смело все то, что так тщательно возделывала бабушка в винограднике моей души. Проклятье, тяготеющее надо мной с рождения, наконец обрушилось на меня. Мне оставалось лишь страдать и покоряться.
Я как раз подходил к черному ходу «Ломонд Вью», когда неожиданная мысль поразила меня и на лбу выступил холодный пот. Ведь сегодня – именно сегодня – пятница. А в воздухе пахло моим любимым блюдом – тушеным мясом. Я застонал. Великий Боже и каноник Рош! Что же мне делать?
Я нерешительно вошел в кухню и занял свое место у стола, за которым уже сидели Кейт и Мэрдок. Ну конечно, как я и опасался, мама поставила передо мной тарелку с тушеной говядиной; порция была почему-то куда больше обычной, да и мясо, судя по запаху, было куда вкуснее. Я смотрел на него обезумевшим взором.
– Мама, – еле слышно сказал я наконец. – Мне сегодня что-то не хочется жаркого.
Все тотчас в изумлении уставились на меня, а мама окинула недоверчивым взглядом.
– Ты что, болен?
– Право, не знаю. Немножко голова болит.
– Тогда съешь картофеля с подливкой.
Мясная подливка… но ведь она тоже запрещена. Я кисло улыбнулся и покачал головой.
– Я, пожалуй, лучше вообще ничего не буду есть.
Мама сокрушенно причмокнула – она всегда так делала, когда в чем-то не была уверена. Прежде чем отпустить меня в школу, где последние дни еще шли занятия, она дала мне ложку микстуры Грегори. А я, когда проходил мимо чуланчика за кухней, умудрился сунуть в карман брюк кусочек хлеба, который с жадностью и съел по дороге в школу. И все-таки весь день в животе у меня были рези от голода.
Вечером, когда семейство собралось за столом, мама, желая полакомить меня, из самых благих побуждений любезно положила передо мной кусочек студня, лежавшего на тарелке мистера Лекки, – в то время ему к ужину всегда подавали какое-нибудь «чудо кулинарии», как он это называл. Мама, словно извиняясь, посмотрела на остальных и сказала:
– Роберту ведь нездоровилось сегодня.
Душа у меня так и перевернулась. Остекленелым взглядом смотрел я на нежные кусочки мяса, проглядывавшие сквозь прозрачное желе. Почему же я не сказал правды? Ох, нет, нет, тысячу раз нет. Я просто не мог этого сделать. Непонятная и трагическая история моей принадлежности к Римско-католической церкви была слишком мучительна, чтобы напоминать о ней в этой семье. Она была забыта, похоронена. И заговорить о ней значило бы навлечь на свою голову всеобщий гнев и беду, равную разве что опустошению, произведенному Самсоном на картине в бабушкиной комнате. Да при одной мысли о том, какое лицо будет у папы…
И все-таки именно он спас меня тогда.
– Малый наелся зеленого крыжовника, – буркнул он вдруг. – Пусть пораньше ляжет в постель. – И он переложил студень с моей тарелки обратно на свою.
А я и близко не подходил к его незрелому крыжовнику. Но я обрадовался этому несправедливому приговору и без ужина отправился в свой маленький закуток за занавеской.
В воскресенье, когда все семейство еще спало, я пробрался потихоньку через погруженную в сумрак переднюю и выскользнул на улицу, торопясь к семичасовой мессе: в церкви я сел позади всех и, когда мимо меня проходили с кружкой для пожертвований, закрыл лицо руками. Церковь была красивая – строил ее, как я впоследствии узнал, Пьюджин, – в простом готическом стиле; все в ней склоняло к молитве: и витражи, выполненные с большим вкусом, и белый высокий алтарь в глубине, и ряд воздушных арок, придававших величие нефу. Но в то утро, повторяя про себя псалмы, я не находил в них утешения. Когда каноник Рош взошел на кафедру, у меня от страха затряслись колени. А что, если он станет обличать меня, нечестивого отщепенца, у которого недостает храбрости постоять за свою веру. Какое счастье… он заговорил не обо мне! Однако то, о чем он объявил, не менее сильно смутило мой душевный покой. Со следующей недели начинался пост: среда, пятница и суббота объявлялись днями воздержания, в которые запрещалось есть скоромное; Господь будет безжалостен к тем слабым нечестивцам, которые посмеют в эти дни прикоснуться к мясу. Глубоко удрученный, ничего не видя, шел я домой и точно одержимый твердил про себя: «Среда, пятница и суббота». Оскорбить Бога, конечно, очень худо. И все-таки страх не перед Ним, а перед страшным каноником побуждал меня взяться за непосильное дело.
В среду мне повезло. Мама, озабоченная предстоящей стиркой, ничего не заподозрила, когда я еле слышно пробормотал, что не приду в обеденный перерыв домой – мне придется задержаться в школе, чтобы привести в порядок учебники; склонившись над баком, она рассеянно велела мне взять с собой несколько кусочков хлеба с джемом. Но в пятницу, когда я попытался прибегнуть к той же уловке, она приняла это иначе: нет, надо прийти домой и съесть горячий обед, безоговорочным тоном приказала она. На сей раз передо мной была поставлена тарелка с котлетой, после чего мама вышла из кухни с таким видом, который не предвещал ничего хорошего, в случае если по ее возвращении тарелка не будет пуста.
О боже, как я страдал! Ни один длиннобородый еврей, перед которым инквизиция ставила жирный кусок свинины, не испытывал таких мучений, как я. В отчаянии посмотрел я на Мэрдока, сидевшего напротив, – он молча жевал, с любопытством наблюдая за мной. Теперь он занимался дома, и, поскольку Кейт задерживалась из-за большого перерыва на обед в младших классах, только мы с ним и сидели за столом.
– Мэрдок! – шепотом произнес я. – У меня от этого мяса страшная изжога. – Я быстро схватил тарелку и переложил ему свою котлету.
Он вытаращил на меня глаза. Но аппетит у него был отменный, а потому он не стал возражать и лишь подозрительно заметил:
– Ты что-то последнее время настоящим вегетарианцем заделался.
Неужели он догадался? Трудно сказать. Дрожа всем телом, пригнувшись к самой тарелке, я съел картофель, тщательно избегая класть в рот тот, на который попали капельки жира.
На следующий день изобретательность моя иссякла. Голодный, упавший духом, я буквально ничего не мог придумать и, когда настал час обеда, просто не пошел в «Ломонд Вью» – не пошел, и все, а вместо этого отправился к порту и тупо бродил там, принюхиваясь, точно собака, к терпким запахам вара и нефти. Вечером я еле плелся домой – так я ослаб от голода. В животе у меня были такие рези, что я уже не думал о том, как я буду объяснять свое отсутствие маме. Я хотел есть, есть.
Проходя мимо дома миссис Босомли, я увидел ее у калитки; в руках у нее было несколько писем. Она попросила меня сбегать и опустить их в почтовый ящик, висевший на столбе. Какое там сбегать! Но как ты ни слаб, нельзя же отказать в услуге доброму другу. Я опустил ее письма в круглый красный ящик на углу Свалочной. На обратном пути она подозвала меня к раскрытому окошку. Глаза мои загорелись. Ну конечно, она протягивала мне обычную награду – огромный бутерброд с консервами на еще теплом поджаренном хлебе.
Спотыкаясь, я завернул за угол – к тому месту, где была колода для лошадей; в руках я держал толстый золотистый бутерброд, от одного запаха которого чуть не терял сознание. Присев на землю, я сплюнул слюну, так и струившуюся по моим крепким молодым зубам. И тут вдруг – о безжалостное небо! – вспомнил, что это консервы «Боврил». Мясо, настоящее мясо! На железнодорожном мосту висит рекламный плакат этой фирмы, на котором намалеван огромный бык, – значит, в каждой консервной банке есть какая-то частица этого быка.
Целую минуту, парализованный ужасом, смотрел я, не мигая, на быка – на это олицетворение всего мясного, этот повод к грехопадению, который я держал в своих детских руках. И вдруг с криком жадно набросился на мясо. Я вгрызался в него зубами, раздирал и уничтожал. До чего же было вкусно! Я забыл и про карающего ангела, и про каноника Роша. Нечестивыми губами всасывал я соленый мясной сок. От восторга я облизал даже пальцы. И когда все до последней крошки было съедено, я вздохнул глубоко, удовлетворенно, торжествующе.
И тотчас с ужасом осознал, чтó я наделал. Грех. Смертельный грех. Минута страшного оцепенения. Потом начались приступы раскаяния – один за другим. Темные глаза каноника сверкали передо мной. Я не мог больше этого выдержать. Разрыдался и побежал наверх к дедушке.