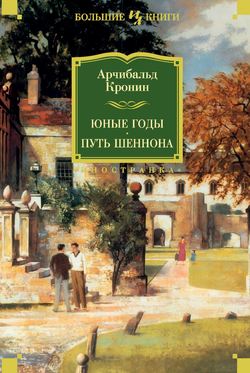Читать книгу Юные годы. Путь Шеннона - Арчибалд Кронин - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юные годы
Часть первая
Глава 1
ОглавлениеКрепко держась за мамину руку, я вышел из-под мрачных сводов железнодорожного вокзала на залитую солнцем улицу незнакомого городка. Я с готовностью доверился своей новой маме, хотя до сих пор ни разу не видел ее, а ее изнуренное, озабоченное лицо, с выцветшими голубыми глазами, совсем не было похоже на лицо моей покойной мамочки. Никакой особой любви к маме я не почувствовал: даже шоколадка, которую она купила мне у автомата, не расположила меня к ней. Всю дорогу из Уинтона, пока мы медленно тащились в вагоне третьего класса, мама сидела напротив меня; на ней было поношенное серое платье, заколотое большой брошью из дымчатого кварца, тоненькая меховая горжетка и черная шляпа, широкие поля которой ниспадали ей на уши; склонив голову набок, она смотрела в окно, и губы ее шевелились, словно она беззвучно, но весьма оживленно беседовала сама с собой; время от времени она прикладывала к уголку глаз платок, точно хотела смахнуть назойливую муху.
Но как только мы вышли из вагона, она постаралась стряхнуть с себя мрачное настроение, улыбнулась и крепче сжала мою руку.
– Вот умница: перестал плакать. Ну как, дойдешь пешком до дома? Это не очень далеко.
Мне хотелось угодить ей, и я ответил, что, конечно, дойду; поэтому мы не сели в кеб, одиноко поджидавший пассажиров у выхода из вокзала, а направились по главной улице, и мама, пытаясь развлечь меня, показывала мне все достопримечательности, мимо которых мы проходили.
Мостовая у меня под ногами то вздымалась, то опускалась, в голове все еще отдавался грохот валов Ирландского моря, а в ушах стоял гул от стука машин на «Вайпере». И все-таки, когда мы подошли к красивому зданию с колоннами из полированного мрамора, стоявшему чуть в стороне от тротуара, позади двух чугунных пушек и флагштока, я услышал, как мама сказала с затаенной гордостью:
– Это ливенфордский муниципалитет, Роберт. Мистер Лекки… наш папа… служит тут: он заведует отделом здравоохранения.
«Папа, – попытался осмыслить я. – Муж этой мамы… отец моей покойной мамочки».
Я устал и еле волочил ноги; мама озабоченно поглядывала на меня.
– Какая жалость, что трамваи сегодня не ходят, – сказала она.
А я и не предполагал, что так устану; да и напуган я был изрядно. Серый свет сентябрьского дня безжалостно озарял городок, мощенный булыжником и полный всяких незнакомых звуков, совсем не похожих на привычное шуршание машин, пролетавших мимо раскрытых окон нашего домика в Феникс-Кресчент. Из доков доносился громкий перестук молотков, а из труб Котельного завода, на который мама указала мне пальцем в лопнувшей перчатке, вырывались такие страшные языки пламени и пара! На улице перекладывали трамвайные пути. На углах ветер завихрял пыль, она засоряла мои распухшие от слез глаза и забиралась в горло.
Вскоре, однако, весь этот шум и грохот остались позади: мы пересекли городской сад, посредине которого поблескивал пруд и возвышалась круглая эстрада для оркестра, и вышли на тихую окраину, казавшуюся маленькой деревушкой, уютно притулившейся у лесистого пригорка. Тут были и деревья, и зеленые поля, несколько допотопных лавчонок и домиков, кузница и возле нее колода, из которой поили лошадей, а совсем неподалеку выстроились новенькие виллы со свежевыкрашенными железными оградами и аккуратными клумбами, и у каждой виллы – высокопарное название вроде «Обитель Эллен» или «Гленэльг», выведенное золотом по цветному стеклу круглого оконца над входом.
Дойдя до середины Драмбакской дороги, мы наконец остановились у серого двухэтажного домика из песчаника, примыкающего к другому, точно такому же; в окнах его виднелись кремовые тюлевые занавески, а надпись над дверью гласила: «Ломонд Вью». Это был самый невзрачный дом на всей тихой улочке – только двери и окна были облицованы камнем, стены же так и остались неотделанными, что явно свидетельствовало о скудости средств владельца; неприглядность постройки скрашивал палисадник, в котором пышно цвели желтые хризантемы.
– Ну вот мы и пришли, Роберт, – заявила миссис Лекки все тем же прочувствованно-радушным тоном, потеплевшим от сознания, что мы наконец прибыли домой. – В ясную погоду отсюда открывается прелестный вид на гору Бен. Хорошо тут у нас: до деревни Драмбак рукой подать. Ливенфорд – старый, прокопченный город, но вокруг чудесные места. Вытри глазки – вот так, миленький, и пойдем в дом.
Носовой платок я вытряхнул вместе с печеньем, когда кормил чаек, но глаза я все-таки вытер и послушно вслед за мамой завернул за угол дома; сердце у меня снова заколотилось от страха перед тем неведомым, что ждало меня. В ушах моих еще звучали слова нашей дублинской соседки, миссис Чэпмен; движимая самыми лучшими материнскими чувствами, она неосторожно сказала, целуя меня в то памятное утро на уинтонской пристани, прежде чем навсегда отдать маме: «Что-то будет с тобой дальше, бедненький мой!»
Подойдя к двери, мама остановилась: молодой человек лет девятнадцати, стоя на коленях, рыхлил цветочную клумбу; завидев нас, он поднялся, но лопаты из рук не выпустил. Вид у него был сосредоточенный и флегматичный; одутловатые бледные щеки, черные лохматые волосы и большие очки с сильными стеклами, за которыми его близорукие глаза казались совсем крошечными, лишь подчеркивали это впечатление.
– Опять ты за свое, Мэрдок! – не удержавшись, с мягкой укоризной воскликнула мама. И, слегка подтолкнув меня вперед, добавила: – Это Роберт.
Мэрдок тупо уставился на меня. Позади дома был дворик с аккуратно подстриженным газоном, по одну его сторону – грядка ревеня, по другую – куча ноздреватого серого шлака и золы, спасительного средства от слизняков, а по углам – железные столбики, к которым прикреплялись веревки для сушки белья. Наконец Мэрдок весьма торжественно изрек:
– Так, так… Вот он, значит, и прибыл.
Мама кивнула – в глазах ее снова появились тревога и печаль; а Мэрдок чуть ли не театральным жестом уже протягивал мне свою широкую мозолистую, заскорузлую от общения с кормилицей-землей руку.
– Рад с тобой познакомиться, Роберт. Можешь рассчитывать на меня. – И, поспешно глянув сквозь свои большие очки в сторону мамы, добавил: – Эти астры мне дали в питомнике, мама. Они не стоили мне ни пенса.
– Хорошо, мой дорогой, – сказала мама, поворачиваясь и направляясь в дом, – только смотри успей вымыться до папиного прихода. Ты же знаешь, как он сердится, когда застает тебя здесь.
– Я уже заканчиваю. Сейчас приду. – И прежде чем снова опуститься на колени, Мэрдок добавил, чтобы умиротворить мать, уже входившую со мной в дом: – Я там поставил для тебя картошку на огонь.
Мы прошли через маленький чуланчик и очутились на кухне, которая, судя по обстановке, служила также столовой: в ней стояла неудобная резная мебель из красного дерева, стены были оклеены тиснеными обоями в кубиках, на одной из них неистово и гулко тикали часы. Велев мне сесть, мама вынула из шляпы длинные булавки и, держа их во рту, принялась складывать вуаль. Потом приколола вуаль к шляпе, повесила ее вместе с пальто в нишу, задернутую занавеской, сняла с гвоздика за дверью синий халат, надела его и принялась уверенно сновать по вытершемуся коричневому линолеуму, время от времени ободряя меня ласковым взглядом, а я сидел не шевелясь на краешке мягкого стула у плиты и еле осмеливался дышать в этом чужом для меня доме.
– Сегодня будем обедать вечером, дружок: раньше я ничего не успею приготовить. И постарайся не плакать, когда придет папа. Для него ведь это тоже большое горе. А у папы и так уйма забот – шутка ли, занимать такое положение в городе! Кейт – это моя вторая дочка – тоже сейчас придет. Она учительница… Твоя мама, наверно, говорила тебе о ней. – Увидев, что у меня задрожала губа, она поспешно добавила: – О, я прекрасно понимаю, что даже для такого большого мальчика страшновато впервые очутиться среди маминой родни. Но обожди, это еще не все, – пошутила она, стараясь вызвать на моем лице улыбку. – У меня есть старший сын, Адам, он замечательно устроился в Уинтоне в одной страховой компании; он живет отдельно, но навещает нас, как только у него выдается свободная минутка. Потом есть еще папина мама… Сейчас она гостит у своих друзей… но почти по полгода живет с нами. И наконец, мой папа; он всегда живет с нами – это твой прадедушка по линии Гау. – У меня уже голова шла кругом от этого перечисления незнакомых мне родственников, но мама, слегка улыбнувшись, продолжала: – Знаешь, что я тебе скажу: не у всякого мальчика есть прадедушка. И тот, у кого он есть, может гордиться этим. Для краткости ты, конечно, можешь звать его просто «дедушка». Вот я сейчас приготовлю ему поесть, а ты отнесешь поднос наверх. Поздороваешься с ним, а заодно и мне поможешь.
Руки у мамы были проворные, и за это время она не только успела накрыть стол на пять человек, но и достала облупившийся черный японский поднос овальной формы с нарисованной посредине розой, поставила на него занятную чашку из ребристого белого фарфора, полную чая, блюдечко с джемом, сыр и три кусочка хлеба.
Эти приготовления удивили меня, и слегка охрипшим голосом я спросил:
– А разве дедушка не спускается к столу?
Мама явно смутилась.
– Нет, дружок, он ест у себя в комнате. – Она взяла со стола поднос и протянула мне. – Донесешь? Вот тут лестница – прямо на второй этаж. Только смотри будь осторожен, не упади.
Держа перед собой поднос, я стал неуверенно взбираться по шатким крутым ступеням незнакомой мне лестницы; посредине ее лежала блестящая дорожка из линолеума. Угасающий свет дня еле проникал сюда через высокое оконце в потолке. На площадке второго этажа, напротив вделанного в стену титана, я увидел две двери. Подергал одну из них – заперта. До другой едва дотронулся – она сразу поддалась.
Я вошел в незнакомую, чуднýю и страшно захламленную комнату. В углу стояла высокая медная кровать с покосившимися шишками; она была еще не прибрана, и пестрое лоскутное одеяло небрежно валялось на ней; ковер из медвежьей шкуры у камина был сбит в кучу; полотенце до полу свешивалось с забрызганного умывальника из красного дерева. Внимание мое привлекли черные мраморные часы, какие можно получить только в подарок, а сам себе никогда не купишь, – они лежали на боку среди всякой всячины, загромождавшей каминную доску, а рядом валялся их разобранный на части механизм. В нос мне ударил тошнотворный запах табачного дыма и пищи – смесь весьма разнородных и трудноопределимых ароматов, которые, так сказать, создавали букет этой давно обжитой комнаты.
Мой прадедушка, в дешевеньком грубошерстном костюме и рваных зеленых ковровых туфлях, сидел у заржавевшего камина, весь уйдя в массивное мягкое кресло – не кресло, а развалину, – и уверенно водил пером по большому листу плотной бумаги, лежавшему вместе с переписываемым документом на низеньком столике, покрытом некогда зеленым сукном. По одну руку от старика выстроилась внушительная коллекция палок для гулянья, по другую – длинный ряд глиняных трубок с металлическими чубуками, набитых табаком и готовых к употреблению, возле них – коробочка с полосками газетной бумаги для раскуривания.
Прадедушка был широкоплечий старик лет семидесяти, выше среднего роста, румяный, с копной все еще рыжеватых волос, красиво рассыпавшихся по плечам. Когда-то волосы у него были просто рыжие, но с годами они утратили свою пламенеющую яркость и, еще не успев поседеть, приобрели удивительный, при определенном освещении положительно золотой оттенок. Того же оттенка были буйно курчавившиеся усы и борода деда. Белки его глаз были, правда, все в желтых прожилках, зато зрачки – ясные, а сами глаза – голубые, пронизывающие, не выцветшие, как у мамы, но живые, ярко-голубые (настоящие незабудки!), чудесные, выразительные глаза. Однако самым примечательным в его лице был нос. Это был крупный нос – крупный, красный и шишковатый; я взирал на него с благоговением, и мне пришло на ум, что он больше всего похож на огромную перезрелую клубнику: и цвет такой же, и даже весь в крошечных дырочках, совсем как эта сочная ягода. Казалось, на лице только и есть что этот примечательный нос – никогда еще я не видел ничего подобного, никогда.
Тут дедушка кончил писать, заложил перо за ухо и медленно повернулся ко мне. При этом сломанные пружины кресла, хотя под них и была подоткнута оберточная бумага, мелодично звякнули, как бы подчеркивая драматизм нашей встречи. Мы молча разглядывали друг друга; я вышел из оцепенения, в которое поверг меня на какой-то миг нос деда, и, представив себе, какую жалкую картину являет собой моя особа: какой я бледный, заплаканный, неописуемо рыжий, в черном костюмчике, купленном в магазине готового платья, один носок спустился, шнурки на ботинках развязаны, – покраснел.
Все еще молча дед отодвинул в сторону свои бумаги и немного нервным, но энергичным жестом указал на свободную теперь часть стола, куда я и поставил поднос. Дед начал есть. Торопливо, с величайшим безразличием ел он сыр вперемежку с джемом и все смотрел на меня, опуская взгляд лишь затем, чтобы размочить корку в чае. Потом залпом выпил чай, рукавом обтер бакенбарды, не глядя протянул руку, точно еда была лишь вступлением к курению или чему-то еще более приятному, и закурил трубку.
– Значит, ты и есть Роберт Шеннон? – Тон у него был сдержанный, но дружелюбный.
– Да, дедушка, – как бы извиняясь, еле выдавил я из себя, не забыв, однако, мамин наказ называть его просто «дедушкой».
– Хорошо доехал?
– Да, дедушка.
– Отличные корабли «Эддер» и «Вайпер»! Мне довелось видеть их у причала, когда я служил в армии. Только у «Эддера» по борту проходит белая полоса – этим они и отличаются друг от друга. А ты умеешь играть в шашки?
– Нет, дедушка.
Он ободряюще и в то же время слегка снисходительно кивнул.
– Ничего, мальчик, со временем научишься, если будешь здесь жить. А насколько я понимаю, ты будешь здесь жить.
– Да, дедушка. Миссис Чэпмен сказала, что больше мне некуда деваться. – Жгучее чувство одиночества, волна жалости к самому себе захлестнули меня.
Вдруг мне ужасно захотелось, чтобы дедушка посочувствовал мне, нестерпимо захотелось раскрыть ему свою душу, поведать о грозящей мне участи. Знает ли он, что мой отец умер от туберкулеза, ужасной наследственной болезни, уже унесшей в могилу двух его сестер, – болезни, с невероятной быстротой сгубившей мою мамочку, болезни, которая, как уверяли, наложила свою печать и на меня?..
Но дедушка, задумчиво попыхивая трубкой, продолжал оглядывать меня с легкой иронической усмешкой, и когда заговорил, то совсем о другом.
– Тебе восемь лет, да?
– Почти восемь, дедушка.
Мне очень хотелось, чтобы он считал меня совсем маленьким, но дедушка был неумолим.
– Ты уже в таком возрасте, когда мальчик должен уметь постоять за себя… Впрочем, надо признаться, ростом ты не вышел… Ну а гулять любишь?
– Мне не приходилось много гулять, дедушка. Когда мы летом ездили отдыхать в Портраш, я гулял по Дороге гигантов. Но только в одну сторону, а обратно мы возвращались по железной дороге в маленьких вагончиках.
– Так я и знал. Ну ничего, мы с тобой совершим несколько прогулок и тогда посмотрим, как на нас подействует добрый шотландский воздух. – Он помолчал немного, как бы впервые обсуждая что-то сам с собой. – Рад, что у тебя мои волосы. Рыжие – в Гау пошел. У твоей бедной мамочки тоже были такие.
Больше я уже не мог сдерживать нахлынувшие на меня чувства и почти по привычке дал волю слезам. Прошла всего неделя, как похоронили мамочку, и одно упоминание ее имени вызывало во мне этот рефлекс, а сочувствие, которое все начинали тотчас проявлять, лишь распаляло меня. Однако сейчас ни полногрудая миссис Чэпмен не погладила меня успокаивающе по спине, ни отец Шенли из церкви Святого Доминика не стал изливать на меня свои пропахшие нюхательным табаком соболезнования. Я быстро смекнул, что прадедушка не одобряет моих слез, и мне стало ужасно стыдно; я попытался успокоиться, неловко вздохнул и закашлялся. Я все кашлял и кашлял, пока у меня не закололо в боку, так что я вынужден был схватиться за него. Такого кашля у меня еще никогда не было – у отца моего и то редко бывали такие сильные приступы. По правде говоря, я даже преисполнился гордости и, когда кашель прекратился, выжидательно посмотрел на деда.
Но он не стал успокаивать меня и вообще не сказал ни слова. Просто достал из кармана пиджака жестяную коробочку, нажал на крышку – она отскочила, и он вынул большую плоскую мятную лепешку, которую в народе называют «дружком». Я думал, что дедушка даст ее мне, а он, к моему изумлению и огорчению, преспокойно положил ее себе в рот. Затем сурово изрек:
– Не выношу плакс. А твой слезоточивый механизм, Роберт, видно, расположен у самых глаз. Надо держать себя в руках, мальчик. – Он вынул из-за уха перо и выкатил грудь колесом. – Мне в жизни пришлось преодолеть немало трудностей. И ты думаешь, я сумел бы их осилить, если б согнулся под их бременем?
Дедушка уже собрался с глубокомысленным и весьма напыщенным видом произнести на эту тему целую речь, но в эту минуту на первом этаже зазвонил колокольчик. Он запнулся – как мне показалось, с явным разочарованием – и махнул трубкой, чтобы я шел вниз, а сам снова взялся за перо. Я же, забрав пустой поднос, пристыженный, на цыпочках направился к двери.