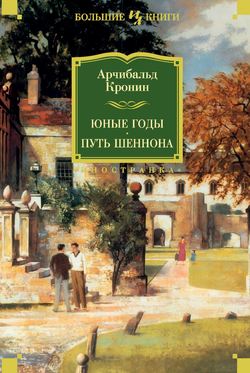Читать книгу Юные годы. Путь Шеннона - Арчибалд Кронин - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юные годы
Часть первая
Глава 14
ОглавлениеНа следующее утро я рано вышел из дому. Я обещал Анджело вернуть журналы, которые взял у него, и мне хотелось как можно раньше освободиться. Я побежал по дороге к кладбищу и вдруг увидел Гэвина, который шел мне навстречу в направлении «Ломонд Вью».
– Гэвин!
Он не сказал ни слова, только изо всей силы сжал мне руку, стараясь подавить радостную улыбку, за которую, должно быть, презирал себя как за проявление слабости. Он мало вырос, но очень загорел и окреп. Достаточно мне было его увидеть, почувствовать, как его серые глаза ищут моего взгляда, и на душе у меня потеплело. Я порывался сказать ему, как мне его недоставало. Но это не полагалось. Нужно быть спокойным и суровым и говорить только самое необходимое.
– А я шел за тобой, – глядя куда-то вдаль, в сторону наших Уинтонских холмов, пояснил он свое появление здесь в столь ранний час. – Я думал, не сходить ли нам на Кряж ветров. Там есть орел. Лесничий говорил отцу. Мы доберемся до скал, пока солнце еще низко, и понаблюдаем за орлом. Завтрак я с собой прихватил.
Я заметил, что за спиной у него висит рюкзак. Орел! И Гэвин! И весь день на холмах… Сердце мое подпрыгнуло.
– Вот это здорово! Но сначала мне надо отнести эти журналы Анджело.
– Анджело? – не понимая, переспросил он.
– Анджело Антонелли, – поспешил пояснить я. – Знаешь, этому маленькому итальянцу. Мы часто бывали вместе, пока ты отсутствовал. Конечно, он еще совсем малыш…
Я запнулся, смущенный выражением недоверия и обиды, появившимся в его глазах.
– Единственные итальянцы, каких я знаю в Ливенфорде, – это торговцы мороженым. Один из них даже ходил с шарманкой и обезьяной по городу и собирал гроши.
У меня запылали уши: да как он смеет так презрительно говорить о дяде Вите, Николо и моих друзьях! А Гэвин продолжал:
– Надеюсь, ты не хочешь сказать, что подружился с их отродьем?
– Анджело очень хорошо ко мне относится, – сказал я дрогнувшим голосом.
– Анджело?! – Еще более задетый тем, что у моего маленького приятеля такое имя, Гэвин презрительно улыбнулся. – Ну, пошли. Полезем на Кряж. А о том, что мы это время делали, можно рассказать друг другу и наверху.
Я понурил голову и, не поднимая глаз от земли, проговорил:
– Я обещал вернуть журналы. Здесь «Сфир», «График» и «Иллюстрейтед Лондон ньюс». – Губы у меня пересохли, я еле выговаривал названия журналов, надеясь, что хоть это поможет мне обелить Антонелли. – На этой неделе в них были замечательные фотографии: как из кокона вылупляется бабочка Адамова голова. Каждую субботу миссис Антонелли посылает эти журналы своим родственникам в Италию. Надо их вернуть ей до отправки почты. Видишь, какой Анджело добрый: он сначала дает их посмотреть мне.
Гэвин побледнел. Натянутым тоном, в котором чувствовалась ревность, он заметил:
– Ну конечно, если ты предпочитаешь мне всяких там новоиспеченных дружков… это твое дело. А я сейчас отправляюсь на Кряж. Хочешь – пойдем со мной. Не хочешь – оставайся со своим Анджело.
С минуту он подождал, не глядя на меня, замкнувшись в своей гордыне, только губы у него дрожали. А у меня сердце разрывалось от горя; мне хотелось крикнуть ему, что он ошибается, должен же он понять… Но ведь он несправедлив ко мне; я побледнел и, решив не отступать, не сдвинулся с места. А он повернулся и зашагал к Кряжу.
Глубоко огорченный и ошеломленный этой неожиданной ссорой, я продолжал свой путь в город. Я решил, что просто оставлю журналы и уйду. Но, добравшись до ливенфордского «Салона», я узнал, что у Анджело стряслась беда куда серьезнее моей.
– Николо болен. Очень болен.
Всхлипывая, он рассказал мне, как все произошло. Виновата Клара, злополучная Клара. Дядя Вита, ходивший по вечерам молиться в монастырь Святых ангелов и пропадавший там иной раз часами, имел обыкновение оставлять Николо во дворе, чтобы обезьянка в его отсутствие могла наслаждаться свежим воздухом, а не сидеть в душной комнате. Но он всегда оставлял открытым окно, чтобы Николо, если погода испортится, мог по водосточной трубе, все равно как по лестнице, немедленно вернуться в комнату. Два дня тому назад к вечеру разразилась сильнейшая гроза, и Клара, чтобы не намокли занавески, поспешила закрыть все окна в доме. Дядя Вита находился в церкви, «Салон» был закрыт; бедный Николо целый час пробыл под проливным дождем; когда Вита вернулся в половине одиннадцатого, насквозь промокшая обезьянка сидела, забившись в уголке двора.
Я последовал за Анджело наверх. В сраженном горем доме царила суматоха. На кухне расстроенная миссис Антонелли смачивала холст в горячей воде. Клара лежала на диване в гостиной, уткнувшись лицом в подушку. В спальне дяди Виты стоял мистер Антонелли, горестно наблюдая своими большими глазами за тем, как дядя Вита, засучив рукава, неутомимо хлопотал возле Николо.
Обезьянка лежала в постели – не в своей корзине, а посредине большой белой постели дяди Виты, обложенная подушками. На ней была лучшая шерстяная куртка дяди Виты и шапочка из неаполитанской мягкой шерсти с кисточкой. Ее маленькое сморщенное личико, выделявшееся на фоне огромной постели, казалось еще более сморщенным. Время от времени зубы Николо принимались стучать, его колотил озноб, и он с тревогой поглядывал на нас. Дядя Вита каким-то остро пахнущим маслом растирал обезьянке грудь. Хлопоча возле больного Николо, Вита все время говорил: сам с собой, с обезьянкой, но главным образом – и явно укоризненным тоном – с мистером Антонелли. Я взглянул на Анджело, он тоже был настолько потрясен этой сценой, что даже перестал плакать. Шепотом он перевел мне:
– Дядя Вита говорит, что это Бог нас наказывает за то, что мы Его забыли… Отец слишком много думает о делах, мама – о гостях да знакомствах, а Клара – о мужчинах. Дядя говорит, что это они с Николо положили начало нашему богатству, собирали по грошику, когда мы сидели без хлеба. Он говорит, что, если Николо умрет… это он говорил вот сейчас, когда плакал… никому из нас никогда, никогда не видать больше счастья.
В комнату вошла запыхавшаяся миссис Антонелли с холстом в тазу, от которого шел пар, и покорно остановилась у кровати. Клара, словно призрак, проскользнула в дверь и стала у притолоки, следя покрасневшими от слез глазами за дядей Витой, который прикладывал холст к телу обезьянки.
Но очевидно, это мало помогало. И вдруг Вита – этот благочестивый, тихий Вита – воздел руки к потолку и разразился потоком слов. Анджело прошептал мне на ухо:
– Он говорит, надо вызвать доктора к Николо, самого лучшего, какой есть в городе. И что Клара, грешница и преступница Клара, из-за которой случилась эта беда, должна немедленно сходить за ним.
Клара начала было возражать.
– Она говорит, что никакой доктор не пойдет к обезьяне. Она попытается найти ветеринара.
По тому, как бешено исказилось лицо Виты, я сразу понял, что с ветеринаром дело не выйдет.
– Нет, – как бы подтверждая мою мысль, кивнул Анджело. – Надо доктора, и только доктора. Надо заплатить столько, сколько он запросит, пусть даже он возьмет все золото, какое у нас есть. И доктор должен быть лучший в городе.
Клара хоть и заплакала, но покорилась, надела шляпу и вышла, прихватив с собой большую пачку денег, которую дал ей мистер Антонелли. А мы сели вокруг кровати и, не спуская глаз с обезьяны, стали ждать доктора – все, кроме Виты, который, перебирая четки и шевеля губами, стоял у постели на коленях.
Через полчаса Клара вернулась одна. Вита сразу вскочил, допросил Клару, которая снова разразилась слезами, закричал не своим голосом и, схватив шляпу, выскочил вон.
– Клара побывала у четырех врачей, и ни один не захотел прийти. Теперь дядя Вита пошел сам.
Добрый час просидели мы у изголовья Николо; наконец послышался звук открываемой входной двери – все вздрогнули. Это был дядя Вита, и мы с облегчением вздохнули, услышав, что он не один.
Вошел врач. Это был доктор Галбрейт, сухопарый старик с маленькой козлиной бородкой; его считали в городе опытным врачом, но не очень любили из-за резкости. Как глухой, не знающий языка Вита сумел убедить этого желчного эскулапа, так и осталось тайной, но самое любопытное, что он пришел не из-за денег.
С минуту он постоял посреди комнаты с таким видом, точно хотел выставить всех нас отсюда. Но потом, видно, передумал и занялся обезьяной. Он измерил Николо температуру, пощупал пульс, простукал всего, заглянул к нему в горло, затем долго с помощью коротенького деревянного стетоскопа прослушивал ему грудь. Обезьянка вела себя великолепно: большими испуганными глазами она доверчиво смотрела на доктора и даже без ложки дала ему посмотреть горло.
Пощипывая бородку, доктор Галбрейт с живейшим интересом и одобрением смотрел на своего пациента, забыв о том, что в комнате полно народу и все пристально следят за каждым его движением. Анджело шепнул мне:
– Дядя Вита считает его очень хорошим доктором.
А доктор, очнувшись от своей задумчивости, написал два рецепта и, скривив с легкой иронией губы, начертал на них: «Мистеру Нику Антонелли». Затем он уложил инструменты в свой черный саквояж и сказал:
– Лекарство давать каждые четыре часа. Держать в постели, согревающее тепло, утром и вечером припарки из льняного семени, кормить только жидким и питательным. Отличный экземпляр североафриканской макаки. К сожалению, у всех у них слабая грудь. У него двустороннее воспаление легких. Доброй ночи.
Он ушел. Хотя дядя Вита бежал за ним до самого конца улицы, он так и не принял ни пенни. Тогда я понял, что его привел сюда чисто научный интерес – странное, чудесное и совершенно бескорыстное чувство, которое уже охватывало меня, когда я сидел у микроскопа, а в более поздние годы должно было служить источником тех немногих радостей, что выпадали мне в жизни. В ту минуту я невольно ощутил гордость за этого угрюмого шотландского доктора, с которым меня роднила национальная общность и общность интересов. Насколько лучше быть таким, чем суетливым и экспансивным, как эти южане!
После его посещения все немного повеселели: теперь хоть известно было, что надо делать. Меня послали в аптеку за лекарством; миссис Антонелли и Клара принялись готовить припарки, а Вита самолично стал варить бульон из цыпленка. Обезьянка согласилась проглотить лишь немного молока. После лекарства ей, видно, захотелось спать, и мы на цыпочках вышли из комнаты.
К сожалению, я был слишком хорошо знаком с легочными заболеваниями и понимал, что Антонелли не вполне представляют себе, как протекает двустороннее воспаление легких. И в самом деле, на следующее утро Николо стало хуже. Обезьянка вся горела и жалобно повизгивала, мечась на большой постели, возле которой стоял на коленях дядя Вита. За весь день она выпила лишь несколько глотков куриного бульона, и к вечеру дыхание у нее стало прерывистым и хриплым.
К концу недели Николо стало еще хуже, и в доме воцарилась горестная тишина, лишь время от времени нарушавшаяся истерическим плачем женщин да дикими криками обезумевшего дяди Виты. Делать мне было нечего, Гэвин не показывался, в школе все еще были каникулы, и я все свое время отдавал Антонелли. Я стал своего рода пажом при больной обезьянке. Каждый день в три часа приходил дедушка, преисполненный серьезности и сознания своего достоинства, чтобы выразить соболезнования. Он ждал в гостиной, надеясь, очевидно, сказать несколько слов сочувствия Кларе или в крайнем случае миссис Антонелли, – а может, его еще и угостят бокальчиком фраскати для поддержания духа. Но в воздухе уже чувствовалось первое – пусть слабое – дуновение мистраля. Витиеватые изъявления сочувствия дедушки выслушивал с кислым видом сам мистер Антонелли. И конечно, никакого фраскати.
А больному становилось все хуже и хуже. Бедный Николо теперь едва дышал и так похудел, что стал похож на маленький скелетик. Снова был вызван доктор, который решительно заявил, что обезьяна обречена. Мистер Антонелли побелел и сказал, что надо бы закрыть «Салон», а на улице перед домом разбросать солому.
В субботу дядя Вита свирепо посмотрел в упор на мистера Антонелли. Анджело перевел:
– Он говорит, что только Бог может спасти Николо. Поэтому мы должны молиться, отчаянно молиться о чуде. Отец должен пойти к канонику Рошу, чтобы тот помолился и отслужил мессу за обезьянку. Монастырские сестры пусть девять дней кладут поклоны, а потом пусть придут сюда и молятся за Николо. О господи, дядя Вита говорит такие страшные вещи папе.
Мистеру Антонелли явно не нравилась возложенная на него миссия. Но сейчас Вита командовал в доме: обезьянка каким-то непонятным образом превратилась в фетиш, во всесильного божка, от жизни или смерти которого зависело крушение или процветание Антонелли. Итак, мистер Антонелли взял шляпу и медленно вышел.
На следующее утро, в воскресенье, каноник Рош объявил с кафедры церкви Святых ангелов, что сейчас начнется служба по просьбе мистера Виты Антонелли. Несколько разочарованный тем, что он не назвал Николо по имени, я, однако, скоро успокоился, ибо в тот же день к Антонелли в дом прибыли мать Элизабет-Джозефина и одна из монастырских послушниц. Антонелли щедро жертвовали на монастырские нужды, и обе монахини были крайне любезны и исполнены готовности помочь. Мы все стали на колени в гостиной и тихо, чтобы не тревожить умирающую обезьянку, принялись читать тридцатидневную молитву и «Мемораре».
Назавтра, в сырой и ненастный понедельник, Николо был при последнем издыхании; с начала его болезни прошло ровно девять дней. Теперь дядя Вита уже никого не впускал в комнату больного, он сам сидел у постели обезьянки и ни на минуту не покидал ее. Но в то утро, в девять часов, вскоре после моего прихода, он вышел из комнаты и, войдя в гостиную, где все мы сидели, точно помешанный, ткнул пальцем в Клару.
– О святой Иосиф! – жалобно пропищал Анджело. – Он говорит, что Клара одна во всем виновата и что она сейчас же, немедленно, должна подняться на триста шестьдесят пять ступеней. В этом вся наша надежда!
Пока все волновались, тщетно пытаясь урезонить дядю Виту, позвольте мне дать небольшое пояснение. Эта добрая простая душа – уроженец солнечной Италии и хранитель всех предрассудков Средневековья, который мог вдруг остановиться посредине мостовой на шумной Главной улице и, запрокинув голову в черной шляпе с широкими полями, падающими на глаза, уставиться на дивное небо, населенное святыми и мадоннами, – придумал себе здесь, на этой чужой для него земле, удивительнейший обряд, я бы даже сказал, испытание. В Замке на Скале, историческом монументе, о котором я уже упоминал, бывшей крепости со старинными пушками, охранявшей вход в дельту (когда-то ее защищали Брюс и Уоллес, а теперь это была всеми забытая святыня, просто памятник старины), снаружи шла крутая винтовая лестница, которая вела от спускной решетки внизу к разрушенному крепостному валу наверху и состояла ровно из трехсот шестидесяти пяти ступеней – по ступеньке на каждый день года. И вот какое испытание придумал для себя дядя Вита: он подымался по этой лестнице на коленях, на каждой ступеньке останавливался и читал «Ave Maria»[7].
Через десять минут мы с Кларой отправились под дождем в замок. Эта грешница и гордячка Клара чуть не теряла сознание при одной мысли о предстоящей ей пытке и позоре. Но дядю Виту нельзя было ослушаться. На улице было слишком сыро, чтобы Анджело мог сопровождать ее, а потому попросили меня составить ей компанию и «последить» за тем, как эта красавица будет приносить покаяние. А если откуда-нибудь вдруг вынырнет гид или появятся экскурсанты, я должен был немедленно предупредить ее, она быстро поднялась бы с колен и, облокотившись на крепостной вал, сделала бы вид, будто любуется окрестностями.
Однако в замке было пусто – всех прогнал дождь, ни одного любопытного не было поблизости. Мы решили, что я тоже должен пройти через испытание. И вот рядом, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы сказать «хвала тебе, Богородица», и отмахиваясь от любопытных галок, мы, точно крабы, поползли вверх по лестнице под неприветливым мокрым небом. Клара, хоть и была немало всем этим огорчена, предусмотрительно захватила с собой подушечку и маленький зонтик. Я же не подумал об этом, а поскольку прикрыться мне было нечем, вскоре промок насквозь и содрал кожу на голых коленках, но мы лезли все выше и выше под проливным дождем, лезли через силу, горячо молясь, отмахиваясь от круживших над нами галок и тревожа тени Уоллеса и Брюса, а также всемогущего Господа Бога.
Наконец испытание окончено, мы добрались до верха. Я едва стоял и почти ничего не видел, так как Клара в последнюю минуту – чисто случайно, но от этого ничуть не менее больно – ткнула мне зонтом в глаз. И все-таки мы достигли цели, взобрались на триста шестьдесят пять ступеней. И с сознанием, что достойно выполнили свой долг, вернулись в «Салон».
По тому, какой мученический вид напустила на себя Клара, я понял, что она ждет признания своего подвига. Но, уж конечно, она никак не ожидала той ликующей радости и тех похвал, какие обрушились на нее у порога. Дверь распахнулась – и все семейство ринулось ей навстречу. Как ее благодарили! Как все радовались! За это время у обезьяны произошел кризис. Позже я сам наблюдал и дивился, какая поразительная перемена наступает в больном по окончании легочного заболевания. Внезапная и магическая… Немудрено, что дядя Вита, с просиявшими глазами, вскричал, что добрый Бог вступился за маленького Николо. В двадцать минут двенадцатого – по подсчетам, это как раз совпадало с завершением нашего испытания, я же некоторое время спустя решил, что, скорее всего, это было в тот момент, когда Клара ткнула зонтиком мне в глаз, – Николо вдруг перестал задыхаться. От слабости у него выступил пот, он слегка улыбнулся своему хозяину и заснул глубоким сном; дышал он глубоко, ровно.
Здоровье обезьянки быстро пошло на поправку; помню, как дядя Вита, расплывшись в улыбке, объявил:
– Николо только что съел первый банан.
Вита снова занял прежнее подчиненное положение в доме, жизнь семейства быстро входила в норму. Кларе сшили несколько новых, невероятно ярких платьев. Добрые сестры монахини получили богатый дар, а каноник Рош – пожертвование на новый алтарь в боковом приделе. Доктору среди ночи прислали три ящика самых лучших консервированных абрикосов – его домоправительница сказала как-то миссис Антонелли, что он питает слабость к этим плодам, к тому же полагали, что он откажется от обыденного подношения.
И только ко мне, Роберту Шеннону, помощнику незаметному, но такому полезному, была проявлена какая-то странная и непонятная холодность, которую можно было назвать по меньшей мере полным отсутствием внимания. Разве я на голых коленях не взобрался на триста шестьдесят пять ступеней и не помог хотя бы наполовину свершиться чуду? Разве не рыскал я по драмбакским лесам в поисках нежных зеленых гусениц, к которым капризный больной проявлял особую страсть? И за все это ни слова, ни капли благодарности! Наоборот, я стал замечать косые взгляды, а когда я поднимался вместе с Анджело из «Салона» в квартиру, разговор между Кларой, миссис Антонелли и Клариным кавалером тотчас обрывался. Подул уж совсем холодный мистраль. Мне предстояло довольно рано узнать одну из горьких жизненных истин.
Несколько дней спустя, когда мы с Анджело прогуливали по двору почти совсем поправившегося Николо, меня кто-то так толкнул, что я отлетел к стенке.
– Убирайся прочь, слышишь! – Из-под нахмуренных бровей на меня злобно глядели глаза Клариного кавалера Таддеуса. – Чтоб духу твоего здесь не было! Пошел вон, убирайся!
Я положительно оцепенел от страха и даже не нашелся, что ему ответить. Но кровь у меня все-таки вскипела. Я сказал, что никуда не уйду. Подождав, пока мы с Анджело остались вдвоем на залитом солнцем дворике, я спокойно, но настойчиво спросил его:
– Послушай, Анджело. Что-то случилось. Чем я провинился? Ну скажи же, Анджело!
Он избегал смотреть на меня. Потом вдруг поднял голову. Его румяное, как персик, лицо пожелтело и стало точно лапы у утки. В мечтательных глазах появилась злость.
– Мы больше не любим тебя! – взвизгнул он. – Мама говорит, что я не должен играть с тобой. Она говорит, что твой дедушка пьяница, он клянчит вино и у него нет денег, ни единой лиры. И он все врет насчет того, что бывает в знатных домах; никогда он там не был, просто он самый большой врун на свете…
Я в изумлении уставился на него. Неужели это тот самый мальчик, рядом с которым я стоял во время первого причастия, прелестное дитя, которое я так любил и которому так много прощал, которого не захотел предать и ради которого пожертвовал дружбой с Гэвином, дорогим Гэвином, хорошим, верным товарищем?
– Да! – продолжал он кричать. – Тад разузнал все это. Твой дедушка обманщик, он нищий, бродяга. Его весь Ливенфорд знает. Он гоняется за женщинами – это в его-то годы! И он скверный, гадкий! Он обнимал нашу милую Клару, чтобы позлить Таддеуса…
Дольше я уже терпеть не мог. Я смутно сознавал, что между Анджело и мной все кончено. Я повернулся было, чтобы уйти, но прежде изо всей силы ухватил его за маленький, как у ангелочка, носик. Наверно, это смертельный грех – причинить боль такому ангелу. Но воспоминание о том, с каким ревом он бросился к матери, озаряло радостью многие горькие недели моей жизни. Да, я до сих пор слышу его.
7
«Радуйся, Мария» (лат.).