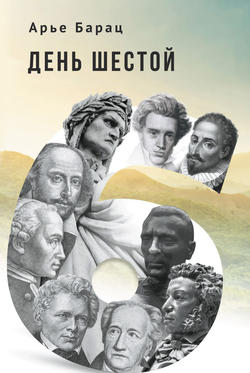Читать книгу День шестой - Арье Барац - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1836
19 апреля (1 мая)
ОглавлениеПетербург
Гоголь проснулся в кресле с каким-то тяжелым чувством. Вчерашнее половодье чаяний и восторгов совершенно схлынуло. Откуда-то выползла тревога.
С беспокойством подъехал Гоголь к Александрийскому театру, и войдя в гримерную, оторопел.
Он ведь просил хотя бы последнюю репетицию провести в костюмах! Не хватило духу настоять, и вот результат. Клоунада!
Актеры были выряжены в какие-то нелепые седые парики, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками.
Не на шутку расстроенный Гоголь проследовал в зал и уселся между Жуковским и князем Вяземским, которые оба слышали уже «Ревизора» в исполнении самого автора.
Зал заполнился самыми избранными чиновниками, генералами, министрами, блестящими наряженными дамами. Наконец, с некоторым опозданием появился и государь.
Действие началось… и уже очень скоро несчастного автора стал прошибать пот. Нелепая игра вызывала в публике то возмущенный ропот, то взрыв неуместного смеха.
Какой ужас! Ведь он все этим клоунам объяснил! Один только Сосницкий, игравший городничего, как будто бы во всем разобрался и единственный был на месте. Бобчинский и Добчинский ни на что не годились!
Но главная роль провалилась совершенно! Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков, не понял, что тот не просто хвастун, а человек, впервые в жизни столкнувшийся с вниманием к своей особе! Неужели же не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Он никого не надувает; он не мошенник; он забывается и сам почти верит тому, что говорит. Его вдохновляет внимание, которого он до сих пор никогда ни в ком не встречал! Выдавая себя за другого, он мечтает, он представляет себя таким, каким желает быть! Но в исполнении Дюра Хлестаков сделался рядовым водевильным вралем!
Вжавшись в кресло, Гоголь неподвижно просидел до конца спектакля.
«Тут всем досталось, а больше всего мне», – заявил Николай по завершении пьесы, а затем вошел в гримерную и, громко расхохотавшись, объявил актеру, сыгравшему Добчинского:
– Вы желали, чтобы государь знал, что в таком-то городе живет Петр Иванович Добчинский? Так вот теперь я знаю об этом.
Но Гоголь этого не видел. Как только упал занавес, он бросился вон из театра и еще долго метался в смятении по улицам.
– Провал! Провал! Бросить все к черту и бежать вон из этого мрачного Петербурга, бежать от этой свинцовой тоски!
Москва
В тот же воскресный день профессор русской истории Московского университета 36-летний Михаил Петрович Погодин собрал на обед полтора десятка своих коллег и друзей.
Дни в Златоглавой стояли теплые, и впервые в этом году пообедать можно было не в гостиной, а в просторном саду погодинского дома на Девичьем поле.
После обеда все разбрелись маленькими кружками. Рядом с Погодиным оказались «басманный философ» Петр Чаадаев, редактор «Наблюдателя» Василий Петрович Андросов и профессор филологии Владимир Печерин.
– Вы слышали, господа, что вышел, наконец, первый номер «Современника»? – поинтересовался Андросов.
– Не только слышал, но вчера уже вертел его в руках, – с некоторым пренебрежением ответил Чаадаев. – Но что за название такое – «Современник»? Современник чего? XVI-го столетия, из которого мы никак не выкарабкаемся?
– Оставьте, Петр Яковлевич, – усмехнулся Погодин. – Для того этот журнал, наверно, и задумывался, чтобы вырвать Россию из средневековья. А название мне кажется замечательным. Мы ведь живем в какое-то особенное время, в которое человечество окончательно повзрослело. Вам разве не кажется? Отныне все люди, которые придут после нас, будут нашими современниками. Кант и Шеллинг превратили свое время во время всех бывших и будущих эпох!
– С этим я, пожалуй, согласен, – произнес Чаадаев. – История подошла к своему завершению. По этому вопросу даже Шеллинг с Гегелем не спорят. Конец Великой Поэмы, авторство которой Шеллинг приписывает Мировому Духу, не за горами.
Слова эти были глубоко прочувствованы. Петр Яковлевич не сомневался, что таинственный час действительно приближается, и даже решил внести в историю свою лепту. На эту встречу на Девичьем поле он принес рукопись своих «Философических писем», чтобы передать их Андросову. Вдруг тот решится опубликовать их в «Московском наблюдателе».
– Не помню такой теплой весны, – проговорил Погодин. – Не помню, чтобы когда-нибудь в середине апреля вот так сирень расцветала.
– Это у нас апрель, а в Европе сегодня уже 1 мая, – заметил профессор Печерин.
– В чем-то мы отстаем от Запада на 12 дней, а в чем-то на 12 веков! – проронил Чаадаев. – Примерно столько столетий минуло с тех пор, как в Римской империи повально стали освобождать рабов. А у нас рабство и поныне цветет как майская сирень.
– Но подумайте только, – горячо возразил Андросов, – Как народ наш преобразится после того, как это рабство повсеместно отменится и крестьянские дети отправятся в школы!
– А у меня, признаться, воображения не хватает это представить. – уныло выговорил Печерин. – Везде это холопство, отовсюду оно прет, и повсюду все подавляет. Я тут раз возвращаюсь домой и вижу – на крыльце сидит нищая старуха. Оказалась моей крестьянкой из села Навольново.
«Видишь ты, батюшка, – говорит. – Староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай милость да напиши им приказ, чтоб они выдали дочь мою Акулину за парня такого-то».
Я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то. Быть по сему. Владимир Печерин». В первый и последний раз в моей жизни я совершил самовластный акт помещика и отослал старуху. Весь этот наш с вами протест, господа, в рамках того же барства протекает. Не имеем мы никакой опоры, чтобы вырваться из этой трясины.
– Опора – в религии, – многозначительно возразил Чаадаев. – На Западе первые случаи освобождения были религиозными актами, они совершались перед алтарем и в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. А у нас закабаление идет при полном попустительстве церкви.
– А мне иногда кажется, что это размеры погубили Россию, – заметил Печерин. – У нас народ никогда всерьез с властью не боролся, просто бежал на Восток, бежал на Дон к казакам. В такой ситуации образованным людям не остается ничего другого, как бежать на Запад.
В 1831 году Печерин окончил филологический факультет Петербургского Университета, а в 1833 уехал на стажировку в Берлинский Университет.
«Оставь надежду всяк сюда входящий!», – вырвалось у Печерина, когда прошлым летом он, возвращаясь после стажировки домой, пересек германскую границу и оказался в пределах Российской империи.
В тот же миг он ясно осознал, что не сможет в ней оставаться, и через полгода после начала своей профессорской карьеры в Московском Университете окончательно решил оставить Россию. Разрешение съездить на лето в Берлин Владимир Сергеевич получил довольно быстро, и через месяц собирался навсегда покинуть страну. Распространяться об этом он, однако, не стал, и лишь заметил:
– Помните, как Мельгунов в «Путевых очерках» описал свое первое чувство, с которым сошел с корабля на европейскую землю?
– Не помню, но могу догадаться, – усмехнулся Чаадаев.
– Он писал о «неизъяснимом чувстве блаженства», о «чувстве заключенного, который после долгого заточения вдруг был выпущен на свет Божий», что-то в этом роде.
– Надо же! – удивился Чаадаев. – И цензура пропустила!
Франкфурт
Мельгунов между тем сидел в тот момент на бульваре Гроссер-Хиршграбен на той самой скамье, на которой накануне ночью беседовал со стариком.
Как всегда не встретив на утренней мессе свою «Мадонну» в соборе святого Варфоломея, Николай Александрович пришел сюда в надежде увидеть ее выходящей из дверей дома, в котором, как он предположил, она жила.
Может быть, ее появление прольет какой-то свет на произошедшее, может быть она что-то знает о двойнике Гете? А может быть, наоборот – ее саму придется признать видением? Впрочем, если это было видение, то не иначе как видение самой девы Марии!
Незнакомка не появлялась. Мельгунов не заметил, как пролетел целый час. Что же с ним в самом деле происходит? Не болен ли он?
Тревожные размышления вернули Мельгунова к его последнему разговору с Пушкиным.
Николай Александрович был знаком с Пушкиным еще с отрочества. Он учился вместе с братом Пушкина Львом в петербургском Благородном пансионе при Педагогическом институте, не раз бывал в гостях у поэта, да и потом общался с ним немало в Москве.
Год назад Мельгунов прибыл в Петербург, намереваясь оттуда на корабле отправиться в Германию, и тогда встретился с Пушкиным в последний раз, это было в доме у Вяземского.
Они не виделись уже несколько лет, и Пушкин очень обрадовался встрече. Разговор зашел о повести «Кто же он?». Пушкин оценил, что мысль о явлении сатаны в образе ближайших умерших людей – идея неожиданная и оригинальная, и спросил:
– А у вас какой-то собственный опыт имелся?
– Имелся, Александр Сергеевич… Мне явился вроде бы Веневитинов, а кто это на самом деле был, одному Богу известно. Это меня поначалу очень тревожило. Я все время боялся, не осложнилась ли моя старая болезнь каким-то дополнительным образом?
– И ваша повесть вас от этого страха исцелила?
– Очень помогла, но не до конца.
– Не тревожьтесь, многим людям самые непонятные духи являются.
– Вы знаете похожие случаи?
– Предостаточно. Чего далеко ходить. Вот, например, матушка моя, Надежда Осиповна, престранного духа встречала. Раз она с батюшкой шла по Тверскому бульвару и увидела женщину в белом балахоне, с белым платком на голове. Причем женщина эта не шла, а как бы скользила, словно на коньках. Матушка ее видела, а батюшка – нет. Да и потом еще эта женщина матушку навещала, и в Михайловском и в Петербурге. Сквозь стены проходила, и всегда двигалась скользя… но смотрела бессмысленно. Или, например, Софья, жена Дельвига – это еще до его смерти случилось – видела в доме моей сестры парившего под потолком злобного старика, даже ходить к ней в гости перестала из-за этого…
– Это вы про привидения рассказываете, а я спрашивал про духов близких людей или родственников.
– И таких историй хватает. Вот как раз недавно услышал я такую историю. У Дельвига был друг – Левашов, кажется, фамилия. Так вот они давным-давно сговорились, что тот, кто умрет первым, явится тому, кто еще жив. И вот представьте, в первую годовщину смерти Дельвига сидит этот Левашов у себя в кабинете и читает книгу. Вдруг ровно в полночь с 13 на 14 января является Дельвиг и садится напротив него в кресло. Не произнес ни единого слова, и удалился… И только потом этот Левашов вспомнил, что у них договор был!
– Но это ведь точно как со мной приключилось! – не удержался Мельгунов. – Точно так же, в первую годовщину смерти Веневитинова, и явился этот загадочный гость! Александр Сергеевич, как вы меня успокоили! Со мной, получается, все в порядке!
– Не беспокойтесь, вы находитесь в приличном обществе, – расхохотался Пушкин и потащил его играть в карты.
Такой разговор состоялся у Мельгунова с Пушкиным год назад, и вот теперь те же сомнения вновь нахлынули на писателя. Все ли с ним в самом деле в порядке? Кто же они – эти странные полупризрачные старик и мадонна?
Мюнхен
Первого мая Шеллинг пробудился на рассвете, но несмотря на то, что день был воскресный нежиться в постели не стал. Мысли о вчерашнем вечере не давали ему заснуть.
Это сходство ночей – Пасхальной и Вальпургиевой – обеих полнолунных, обеих воскресных и, как оказалось, еще и обеих пасхальных в пространстве еврейской литургии – не давало ему покоя.
Наметанный взгляд автора «Философии мифа» ясно опознавал во всем этом какую-то «структуру» – за этим совпадением должно было что-то скрываться. Нависшая вчера над домом еврейского банкира луна на что-то определенно намекала, определенно наводила на какую-то мысль…
Шеллинг потер виски.
Ну, конечно же! Пасхальная и Вальпургиева ночи – это ночи-антагонисты, но в то же время и ночи-близнецы! Они смотрятся друг в друга как в зеркало: сгущающийся мрак Вальпургиевой ночи симметричен предрассветным сумеркам ночи Пасхальной!
Два эти противопоставленные друг другу мифа глубоко увязаны между собой. Они перемигиваются друг с другом в культуре, они задают друг друга в метаистории. Но иногда они оказываются способны вписаться в какую-то причудливую календарную химеру, позволяющую их некоторым дополнительным образом отождествить.
Вчерашнее астрономическое совпадение определенно на что-то намекало, создавало возможность какого-то культурного эффекта, какого-то религиозного события, представляло собой некий натурфилософский этюд.
В пасхальную ночь он попросил знамения – и вот его получил!
В этом – 1836 году Пасхальная и Вальпургиева ночи выстроились друг перед другом словно как в каком-то брачном танце… Они оказались в этом году как бы приурочены друг к другу. Вот именно – приурочены. Как это там у Гете?
«Пошли приказом воина в сраженье,
А девушку в веселый хоровод.
И дело вмиг у них на лад пойдет.
Так и у нас. Я дело приурочу
К классической Вальпургиевой ночи».
Пока трудно сказать, можно ли будет сварить из этих ингредиентов какой-то глинтвейн, но само по себе любопытно!