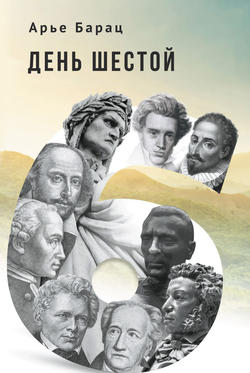Читать книгу День шестой - Арье Барац - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1836
21 марта (2 апреля) (Пасхальная ночь западных христиан)
ОглавлениеМюнхен
Пасхальный вечер тайный советник профессор мюнхенского университета Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг провел в кирхе.
Домой он возвращался понурый, одиноко бредя за своей преданной Паулиной, увлеченно беседовавшей с соседкой. Женщины шли рядом, и Шеллинг, невольно отстав, предался грустным мыслям.
Эта Пасха, к которой он готовился как к никакой другой, Пасха, которую еще год, да что там год – еще три месяца назад! – воспринимал как знамение возрождения его миссии в качестве Первого Мыслителя Европы, эта Пасха превратилась в знамение его провала!
Восхождение Шеллинга было феерическим. В 1797 году в 22 года он написал труд «Идеи к философии природы», издание которого, при содействии Гете, привело Шеллинга на кафедру философии Йенского университета в качестве профессора. Здесь в 1800 году он издал книгу «Система трансцендентального идеализма» и приступил к разработке «философии тождества», согласно которой в первооснове бытия лежит тождество субъективного и объективного.
Идея была навеяна диалогом Джордано Бруно «О причине, начале и едином», и впервые раскрыта в 1802 году в сочинении «Бруно, или о Божественном и естественном начале вещей».
Но наиболее полно Шеллинг изложил эту философию в 1804 году в сочинении «Система моей философии». Тогда же он создал близкие по духу «Философию религии» и «Философию искусства».
Но философия тождества оказалась внутренне противоречивой, она не поддавалась, точнее она не подлежала разработке. Коль скоро в основу бытия положена интуиция, а не разум, то разуму выпадает второстепенная роль. Кажущаяся успешной на уровне тезисов, «философия тождества» могла получить максимальное свое раскрытие лишь в литературной области. Область эта некогда манила Шеллинга: в юности он писал стихи, даже поэмы, позже писал и романы, однако окончательно определился он все же как философ, а не литератор, и теперь, приближаясь к старости, пожинал плоды.
Сочинения Шеллинга – сбившиеся с прямого рационального пути и уклонившиеся в сторону религии и визионерства – стали вызывать насмешки философской публики.
Шеллинг как мог отбивался от нападок, но вдруг летом 1807 года, как вор из-за угла, выскочил Гегель со своей «Феноменологией духа». Всегда он был преданным учеником Шеллинга, всегда смотрел на него снизу вверх… но тут вдруг выступил с жесткой критикой! Впрочем, не в критике было даже дело, а в том, что критикуя, Гегель незаметно для публики выкрал у Шеллинга все его основные прозрения!
Поучая Шеллинга, как тому следует обходиться с выдвинутыми им идеями, Гегель бесцеремонно ввел эти идеи в свой оборот! В течение последующих лет этот мошенник показал себя в такой же степени неспособным завершить эти идеи, в какой неспособен был их изобрести. Но все, раскрыв рот, почему-то восторженно ему внимали!
Завладев его – Шеллинга – главной концепцией, концепцией истории как самосознания Мирового духа, Гегель завел эту историю в философский тупик, представляя ее чисто спекулятивной. Гегель не понимал, что из мысли невозможно вывести бытие, которое бы отличалось от бытия мысли! Гегель, как фокусник, который извлекает из шляпы заранее подброшенные в нее предметы, производил из собственной головы не имеющие никакого отношения к действительности «категории»… а легковерная публика восторженно аплодировала!
Так вор и шарлатан Гегель стал первым умом Германии, а он, Шеллинг, истинный пророк Мирового Духа, оказался забыт и осмеян! Ситуация не изменилась и после смерти неблагодарного ученика.
Как бы то ни было, но глумление филистеров над трудами Шеллинга привело к тому, что он совершенно перестал публиковаться. Он писал, писал много, но никак не мог доработать текст до такого состояния, чтобы лишить своих озлобившихся недругов малейшей возможности над ним издеваться.
Результат оказался плачевный: с тех пор, как Шеллинг объявил о скорой публикации «Мировых эпох», написанных в 1811–1815 годах, прошло двадцать лет, а его последнее печатное произведение – памфлет против Якоби – появилось почти четверть века назад – в 1812 году!
Шеллинг по-прежнему хранил репутацию блестящего лектора. Чтобы услышать его суждение о «Философии мифологии» и «Философии откровения», люди съезжались со всей Европы, и на его выступления невозможно было пробиться. Но, во-первых, лекции – это особы предварительные, это эмбрионы, ожидающие своего рождения в виде книг, а во-вторых, лекции всеми старательно конспектируются, неизбежно обрастая при этом домыслами и неточностями. Были даже случаи, когда такие конспекты публиковались без его авторского ведома!
Измученный и издерганный Шеллинг два года назад, наконец, решился: он подписал контракт с издателем господином Георгом Коттом. Предполагалось опубликовать не просто отдельные работы, а полное собрание его сочинений: «Положительная философия» – один или два тома, «Философия мифологии» – шесть томов, и «Философия откровения» – два тома.
Появление в свет этих трудов должно было ознаменовать полноценное возвращение Шеллинга на философскую арену, должно было вернуть ему заслуженное положение, положение первого мыслителя Европы: не наместника Мирового Духа на земле, каковым мнил себя Гегель, а лишь его доверенного лица.
В этом опять же заключалось коренное расхождение Шеллинга с Гегелем. Мировой Дух пишет великую поэму, а не философский трактат, якобы знаменующий собой завершение истории. Если уж Мировой Дух действительно произнес свое последнее слово, то он произнес его в «Фаусте», а не в «Феноменологии духа»: «Теория, мой друг, мертва, но зеленеет жизни древо».
Пока Гете продолжал писать своего «Фауста», Шеллинг, собственно говоря, так и верил, то есть верил, что это произведение явится той, как он писал, «лежащей в неопределенной дали точкой, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму». Новый мир, начавший свое построение с «Божественной комедии», по всей видимости, завершает свое формирование в «Фаусте».
Однако, когда после смерти Гете была, наконец, издана пестрящая загадочными символами вторая часть «Фауста», пришли сомнения. Шеллинг почувствовал, что доктор Фауст – не последний штрих в соборном образе человека Нового мира, каким он останется на все времена. Что-то этому образу все же не доставало.
Сомнения эти навалились на Шеллинга как раз в ту пору, когда он решился издать собрание своих сочинений. По этому случаю он даже загадал, что события эти – издание его трудов и завершение мировой поэмы – совпадут; что в самое скорое время произойдет та литературная вспышка, которая осветит всю историческую композицию, и в которой Мировой Дух закончит задуманную им «великую поэму».
Последним сроком подачи рукописей издателю было 3 апреля 1836 года, то есть та самая Пасха, которую он сегодня встретил.
Два эти года Шеллинг напряженно работал, но рукописей г-ну Котту к сроку так и не представил. Не решился. Можно было, конечно, продолжать обманывать себя, говорить, что «не успел», но характер этого «не успел» был ему самому – особенно сегодня – слишком ясен: он не в состоянии довести свои тексты до должного блеска, он страшится глумливой критики. Ему шестьдесят один год, смерть, возможно, уже не за горами, а он так и не решился! Что его ждет?
Сегодня во время пасхальной службы он стал молиться, стал просить, чтобы Дух подсказал ему решение, дал бы какое-то знамение.
Судорожные метания, наивный порыв. Откуда? Какое знамение?
Подавленный этими нелегкими мыслями, Шеллинг брел в одиночку, основательно отстав от своей нежной любимой Паулины.
Приближаясь к особняку банкира Симона Селигмана, Шеллинг еще издали увидел освещенную лунным светом внушительную группу людей, столпившуюся у входа в дом.
Большинство из них выглядели обычно, но трое были одеты в черные лапсердаки, выдающие в них традиционных евреев. Удивляло, что, несмотря на поздний час, в этой толпе было немало детей.
Поравнявшись с домом банкира, Шеллинг увидел среди этой толпы своего студента Макса Лилиенталя, писавшего работу по Филону Александрийскому. Они раскланялись.
Шеллингу импонировали иудеи. Он не понимал ни Канта, ни Фихте, ни тем более Гегеля, глубоко презиравших еврейскую религию. Племенная самовлюбленность Израиля, равно как и глупое иудейское обрядоверие не казались ему – Шеллингу чем-то исключительным. А разве христиане вообще, и даже лютеране в частности, не помешаны на собственной правоте? Разве они не имеют своих обрядов? Все христианские направления привыкли выезжать на ограниченности иудаизма, не замечая, что в них самих не больше смысла, чем в нем. Все религии в равной мере держатся на множестве нелепых предрассудков, но у евреев, по крайней мере, есть впечатляющая история, есть даровитость, есть, наконец, связь с Писанием, хоть как-то оправдывающая их пристрастие. У католиков, протестантов, мусульман нет и того. В грядущую церковь войдут все без разбора, основываясь на чистоте помыслов, на достоинстве человеческой личности. В эту действительно свободную от обрядов церковь войдут и христиане, и евреи и даже язычники. Но пока этой вселенской церкви не возникло, евреи менее остальных традиционных верующих заслуживают насмешек.
– Что это вы все тут делаете в столь поздний час, господин Лилиенталь? – поинтересовался Шеллинг.
– У нас тоже Пасха, герр профессор. Видите, полная луна? Это полнолуние месяца Нисана.
Шеллинг взглянул на огромную серебристую луну, нависшую над домом банкира.
– Сегодня календари печатают на бумаге, – продолжал Макс, – и все мы забыли про этот небесный нерукотворный календарь, забыли слова псалмопевца: «Он сотворил луну для определения времен». В небе подвешен календарь, герр профессор, при наметанном глазе ошибиться можно только на день.
– Луна – естественный календарь? Как это вы хорошо сформулировали, господин Лилиенталь… Так у вас, говорите, тоже Пасха? Выходит сегодня все повторяется…
– Я не понял. Что повторяется?
– Я имею в виду, что Иисус Христос был распят как раз накануне еврейской Пасхи, перед наступлением Субботы. В ту ночь, значит, в небе светила такая же яркая луна. Она кажется сегодня необычной яркой, не правда ли?
Ольденбург
В тот вечер за пасхальным столом двадцатисемилетнего раввина Шимшона Гирша собралось около двадцати человек – сам рав Шимшон, его ученики, жена Хана и трое их детей, старшему из которых, Менделю, исполнилось уже четыре года, и он вполне самостоятельно пропел: «Чем эта ночь отличается от всех прочих ночей?»
Без малого уже шесть лет рабби Гирш возглавлял еврейскую общину Ольденбургского княжества. Он без особого напряжения разрешал незатейливые проблемы окружавших его евреев – по большей части окрестных селян, вел несколько уроков в еврейской школе, и по десять-двенадцать часов в день проводил над изучением священных книг.
Обсудить сложные вопросы со сведущим собеседником удавалась нечасто, и рабби Гирш с тоской вспоминал своих друзей Цви Ойербаха и Гершона Йеошофата, с которыми в свое время учился в Мангеймской йешиве.
Только в «хевруте», только в обсуждении с другом возможна полноценная учеба, но уже долгое время рабби Гирш был ее лишен. Единственной его собеседницей была его драгоценная Хана, с ней он размышлял над трудными местами Талмуда, с ней он делился своими тревогами о судьбе германского еврейства, с ней обсуждал и свои замыслы.
Хана была единственной свидетельницей его работы над книгой «Хорев», разъясняющей заповеди Торы людям, захваченным идеями просвещения.
«Даже если бы мы смогли постичь самый глубокий смысл каждой заповеди, – писал рабби Гирш в авторском предисловии, – или Сам Всевышний раскрыл бы нам его, – мы и тогда были бы обязаны исполнять их не из-за того или иного смысла, а потому, что нам заповедал их Всесильный».
Минувшей осенью работа была завершена. Но зимой выяснилось, что во всей Германии не имеется ни одного еврейского издательства, готового напечатать книгу, посвященную «отжившим свой век» законам! Головами германских евреев прочно овладели идеи прогресса, а набравшие силу реформисты, как могли, препятствовали традиционному просвещению.
После нескольких месяцев тщетных поисков, Хана предложила мужу попытать счастья в каком-либо нееврейском издательстве. Эта неожиданная идея оказалась плодотворной.
В типографии города Альтоны рабби Гирш получил еще один дельный совет: подготовить сначала небольшую брошюру, в которой бы излагались главные идеи, и уже, если она разойдется, издать основную книгу. На такой риск издатель-христианин готов был пойти.
Рабби Гирш немедленно сел за работу, и в короткий срок написал «Письма с севера. Девятнадцать посланий о еврействе» – брошюру, в которой в полемической форме затрагивались все острейшие вопросы современности, все «за» и «против» Моисеева Закона. Незадолго до Песаха брошюра была отдана в набор.
Хане очень понравилось новое сочинение мужа.
– До сих пор и реформисты, и ортодоксы говорили как будто каждый сам с собой. А ты их столкнул – и получилось интересно. Особенно интересно было познакомиться с аргументами реформистов в твоем изложении.
– Их аргументы только им самим и кажутся новыми, по сути же они лишь повторяют тысячелетние христианские обвинения. И те и другие считают, что евреи о себе слишком много возомнили, веря в то, что Бог всех людей избрал именно их. И те и другие неспособны вообразить, что Бог может быть настолько «ограничен», чтобы всерьез требовать от кого-то соблюдения субботы.
Франкфурт
В тот же пасхальный вечер в десятом часу пополуночи тридцати-двухлетний литератор и один из учредителей журнала «Московский наблюдатель» Николай Александрович Мельгунов вошел во франкфуртский собор Св. Варфоломея.
Вот уже скоро год как Мельгунов путешествовал по Германии, общался со знаменитостями, писал для своего журнала «Путевые очерки» и лечился от преследовавших его смолоду головных болей и невралгий у доктора Иоганна Генриха Коппа, прославленного медика, последователя Ганемана.
Зиму Николай Александрович провел неподалеку от Франкфурта, в Ганау, где располагалась клиника доктора Коппа. В Ганау было скучно, и Мельгунов довольно часто наведывался во Франкфурт, прозванный «германским Парижем».
Пасху Мельгунов решил встретить в Соборе Св. Варфоломея – не просто самом роскошном и крупном во Франкфурте, но и самом «историческом», – в нем на протяжении столетий помазывались короли священной римской империи.
Часа за полтора до полуночной пасхальной мессы Мельгунов подошел к алтарю спящей Марии и застыл от неожиданного зрелища.
Перед скульптурным изображением, облокотившись на невысокий деревянный бортик, молилась девушка, на вид лет двадцати. Она была повернута к Мельгунову в пол-оборота, и он мог хорошо ее рассмотреть, не привлекая ее внимания.
Все в ней подчинялось какому-то глубокому молитвенному порыву. Ее нездешнее лицо с полуприкрытыми глазами и неслышно шевелившимися губами невольно завораживало, а ее изящная фигура, покрытая строгим лиловым плащом, казалось уносящейся куда-то ввысь.
«Мадонна, – подумал ошеломленный Мельгунов. – Подлинная Мадонна!»
Никогда Николай Александрович не испытывал такого странного порыва: хотелось повернуться спиной к мраморной Мадонне, и молиться вознесшейся в высшие миры живой девушке! Хотелось крикнуть: «Забери меня с собой! Забери туда, куда вознеслась!»
Мельгунов был настолько прикован к этому видению, что когда девушка поднялась с колен и отошла в один из проходов, он не мог вспомнить, находились ли рядом с ней перед алтарем другие люди.
Какое-то время он еще держал девушку в виду, но к началу мессы она затерялась среди прибывающей толпы.
После службы, когда уже все разошлись, Мельгунов вышел на бульвар Гроссер-Хиршграбен, и пройдя по пустынной аллее несколько минут, уселся на скамейку.
Над четырехэтажным домом напротив висела огромная полная луна, светившая столь ярко, что в ее лучах терялся свет газовых фонарей, щедро установленных вдоль всего бульвара.
Лунный свет всегда успокаивал Николая Александровича, настраивал на искания и размышления. Так случилось и теперь.
«Как странно, – подумал Мельгунов, – для плоти ночь – это время сна, а для духа – время бодрствования, время невероятных открытий и находок. Днем же все наоборот: тело трудится – потеет, а дух впадает в спячку…»
Мельгунов захотел уже было вернуться в гостиницу и записать неожиданно нахлынувшие на него мысли, как вдруг заметил медленно приближающуюся человеческую фигуру в сопровождении огромного черного дога.
Поравнявшись с Мельгуновым, человек остановился. То был невысокий, слегка сгорбленный старик, закутанный по самый нос шерстяным шарфом.
– Зитц! – скомандовал он собаке, которая немедленно уселась на задние лапы. Старик подсел к Мельгунову на скамейку.
– Какая луна, а?
– Да, редкой силы сияние, – согласился Мельгунов.
– Но с солнцем все же не перепутаешь?
– Что за странный вопрос?
– Вопрос политический, по меньшей мере, правовой. С одной стороны, вроде бы все ясно: одно светило яркое, другое тусклое, одно светит своим светом, второе – отраженным светом первого, но их видимый нашему глазу размер одинаков! Заметьте, когда они оба на небосводе, и одно на другое накладывается, то закрывает его, как два талера. Так что, хотя солнце в 400 раз больше луны, оно расположено во столько раз дальше от земли, что оба светила выглядят одного размера.
– Верно, – согласился Мельгунов, – действительно, их иногда можно даже перепутать… в сумерки и при сильном тумане… Но интересно, кому это нужно, чтобы они казались нам одного размера? Или я глупый вопрос задал?
– Вопрос совсем не глупый. Если бы Шеллинг задался этим вопросом, вся его натурфилософия развивалась бы совершенно по другому… Был бы сейчас самым успешным философом, а он…
– Да, с Шеллингом нынче что-то не то происходит. Как объяснить, что этот некогда блестящий мыслитель за четверть века не издал ни одного труда? И при этом, как я слышал, сердится, что его обворовал Гегель? Хочется понять, в чем проблема – в субъективности или объективности, в его личной несостоятельности, или в общефилософских возможностях познания?
– Говорят, он работает над собранием сочинений. – многозначительно произнес старик. – Хочет одним разом всех удивить. Ой, получится ли?
– Так вы говорите ответ – в вопросе: отчего солнце с луной одного размера?
– Вот именно: отчего? Вот и подумайте на досуге.
Старик свистнул собаке и так же внезапно отошел, как и появился.
Мельгунова озадачил вопрос старика, но вернувшись в «Отель де Руссе», он первым делом записал все же начавшую складываться у него на скамье фразу: «Для людей, живущих внутренней жизнью, свет дня так же тягостен, как и для птицы Минервиной, и они охотнее глядят на опускающееся солнце или на бледный свет луны, на эту божью лампаду ночи, которая осветит их духовный труд, работы ума их, вдохновенный плод их сердца. Они любят вечер и захождение солнца потому, что это вестники духовного дня».
Петербург
В тот же субботний вечер Пушкин с женой были с визитом у Карамзиных. Историк Николай Михайлович Карамзин, умерший десять лет назад, сыграл в судьбе Пушкина выдающуюся роль, и как человек, и как литератор, и даже как покровитель: в 1820 году, после того как на столе Александра I появился текст оды «Вольность», именно заступничество Карамзина спасло поэта.
Вняв увещеваниям придворного историка, «самовластительный злодей» отказался от своего первоначального решения заточить Пушкина в Соловецкий монастырь, и вместо этого сослал его на Кавказ.
После смерти Карамзина Пушкин сохранил тесную дружбу с его семейством, с вдовой Екатериной Андреевной Карамзиной и детьми – Александром, Андреем, Вольдемаром и Софи.
В тот вечер собрались ближайшие друзья Александра Карамзина – Аркадий Россет, Михаил Юрьевич Виельгорский, чета Вяземских, Жуковский. Заглянул на тот огонек и поручик Жорж Дантес.
Покинул он, впрочем, компанию довольно рано – заторопился на пасхальную мессу, окинув на прощание Наталью Николаевну робким, но жарким взглядом.
Жуковский, поэт и царедворец, автор первого российского гимна, делился наболевшим:
– Вот вы говорите, только у нас цензура лютует… А в Германии ее что ли нет? Профессор Тюбингенского университета Давид Штраус издал книгу «Жизнь Иисуса, критически рассмотренная», так вся Германия гудит: как допустили? как просмотрели? где была цензура? Ну и, понятно, от преподавания автора отстранили. Лекций своих больше профессор не читает…
– Да что же он там такое написал? – удивилась Софи.
– Говорят, простым человеком Спасителя выставил, а чудеса объявил сказками!
– Господи помилуй! – перекрестилась Екатерина Андреева.
– Но сам я пока не читал. Только заказал по почте прислать…
– Отстаете от жизни, Василий Андреевич, – заметил Вяземский. – Книга очень серьезная, думаю, что в России один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение.
– Вы меня пугаете.
Заговорили об Антихристе и о том, что книга Штрауса – верный знак его скорого приближения.
– Раньше вот все считали, что Антихрист – Наполеон, – заметила Софи. – А теперь на кого думать? Может с востока его ждать?
– С востока? – усмехнулся Жуковский. – На восток, слава Богу, одна Россия простирается, уже с другого края к Западу подбираемся.
– Не понимаю я этих восторгов по поводу размеров страны нашей. – вяло и как бы в сторону возразил Вяземский. – Зачем нам Польша? Зачем Америка? Поляков лучше иметь в качестве явных врагов, чем при каждом держать часового и следить, что бы снова не восстали, а до Аляски столько лет скакать, что управлять этим краем решительно невозможно.
– А мне нравится, что есть Русская Америка, – не согласился Пушкин. – Мне про нее Федор Толстой много интересного рассказывал. Сбежал бы туда. Да и подумать только, на трех континентах страна наша раскинулась! А ведь размер страны влияет на самочувствие ее гражданина. Как по-разному человек чувствует себя во фраке и в домашнем халате, так же и на большой и малой земле.
– Вот и я как раз о том же! – подхватил Вяземский. – Размер России стал уже частью русской души – широкой и неспешной, от того у нас и от мысли до мысли пять тысяч верст!
Спор завязывался нешуточный.
Жена Пушкина Наталья Николаевна тем временем сидела в сторонке и листала альбом Софи.
– Мы не надоели тебе своими географическими изысканиями, дорогая? – спросил Пушкин, заметив скучающий вид жены.
– Можете продолжать, я вас не слушаю…
– Ну зачем же так, хочешь, пойдем домой? – предложил Александр Сергеевич.
Пушкин взял жену под руку, и они откланялись.
В экипаже Пушкин между прочим спросил: – Я смотрю, этот француз записался к тебе в поклонники?
– Ты заметил?
– Он ел тебя глазами.
Наталья Николаевна немного смутилась.
«Этот француз» не только воспылал к ней самой возвышенной страстью, но месяц назад объяснился ей в любви и, что самое главное, вовсе не оставил Наталью Николаевну равнодушной.
Этот молодой человек, ее сверстник, отличался редкой обаятельностью и пользовался всеобщей любовью. Как было устоять? Услышав, что она любима, Наталья Николаевна скоропалительно, словно кто-то тянул ее за язык, призналась в ответных чувствах, но заявила Дантесу то же, что и Татьяна, выведенная ее мужем в поэме «Евгений Онегин». Она сказала ему, что «не может быть счастлива иначе, чем уважая свой долг».
Теперь ее долг, по-видимому, состоял в том, чтобы открыть эту интригу супругу но, конечно, не всю. Признаться мужу в своем чувстве к Дантесу ей казалось совершенно излишним. Эта рана, сладостно ноющая в ее сердце, после шести лет брака с Пушкиным вправе оставаться секретом от мужа, которому и без того хватает забот: мелочная и унизительная опека правительства, вечные долги, цензура и Бог знает что еще.
– Как-то между двумя ритурнелями кадрили он успел наговорить мне множество восторженных слов… Но ведь не он первый, кто назвал меня прекраснейшей женщиной Петербурга.
– Давно ли приключилось это излияние?
– Не помню точно. Около месяца… даже больше.
– Около месяца?! А я заметил только теперь? Я, похоже, сам не в себе…
– Мне тоже кажется… Ты в последнее время взрываешься от всякого пустяка… Но не беспокойся по поводу Дантеса. Это совершенно невинный воздыхатель, который решительно ни на что не рассчитывает.
– Не понимаю, какие вообще могут быть расчеты на даму в твоем положении… – усмехнулся Пушкин, кивнув на семимесячный живот своей супруги.
Наталья Николаевна была права. Он был не в себе последнее время. После выговора, полученного от Бенкендорфа за пьесу «На выздоровление Лукулла», осмеявшую Уварова, последовало назначение Крылова в качестве цензора. После этого неприятности повалились одна за другой. Небрежность, допущенная Пушкиным при переводе «Вастола», была истолкована некоторыми как сознательный обман публики… Московский знакомый Пушкина Хлюстин сказал ему это в лицо, и после обмена резкими репликами дело чуть не дошло до поединка.
А теперь еще всплыла история с оскорбительными словами, якобы сказанными Наталии Николаевне Сологубом, и Пушкин уже твердо решил ехать к тому в Тверь, чтобы потребовать удовлетворения.
В этот вояж поэт рассчитывал отправиться после выхода в свет первого номера «Современника». Но тут как раз слегла мать, было очевидно, что долго ей не протянуть. Пришлось остаться в Петербурге и каждый день навещать родителей.
– Да, ты совершенно права, – Александр Сергеевич придвинулся к жене и взял ее за руку. – Я немного не в себе.
Где-то вдалеке раздался звон колоколов.
– Что это?! Ах, да – католическая пасха, – вспомнил Пушкин. – Наша – через неделю.