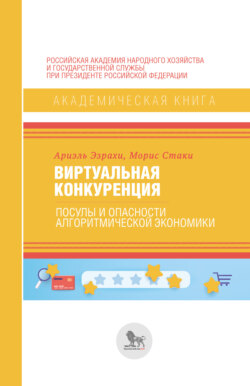Читать книгу Виртуальная конкуренция. Посулы и опасности алгоритмической экономики - Ариэль Эзрахи - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Подготовка сцены
3
Мягкое антимонопольное регулирование
ОглавлениеВ 1998 г. в США существенно увеличился уровень рыночной концентрации, обусловленный волной банковских слияний. У многих финансовых учреждений сократилось количество собственников. Алан Гринспен, глава Федеральной резервной системы, сообщил американскому Сенату, что беспокоиться не стоит. Подход антимонопольных ведомств к величине компаний уже поменялся:
В 1970-х и 1980-х гг. произошло значительное смещение акцентов. На смену почти детерминированной реализации стратегии антимонопольного правоприменения (antitrust enforcement)1 пришла, при поддержке так называемой чикагской школы, вера в то, что те несовершенства рынка, которые не являются следствием государственных субсидий, квот и привилегий (franchises), будут смягчены усилением конкуренции. Антимонопольные начинания не рассматривались как безусловно эффективные меры воздействия. Сдержанная антимонопольная политика, как в последнее время считают ее влиятельные сторонники, повышает эффективность рынка2.
В 1998 г. многие антимонопольные правоприменители согласились бы с этим. Стоит отметить, что некоторые теоретики и практики антимонопольной деятельности согласились бы с этим даже сегодня – несмотря на экономический кризис и предпринятые в США меры экстренной помощи тем финансовым организациям, которые, из-за упомянутых слияний, были признаны системно значимыми (too big to fail).
Национальные юрисдикции демонстрируют различные уровни вмешательства государства. Однако, как мы увидим в данной главе, в антимонопольной политике на протяжении последних 35 лет часто преобладали сторонники более мягкого (если хоть какого-то) вмешательства государства в процессы слияния и деятельности монополий. Единственное исключение – судебное преследование картелей, которые фиксируют цены, распределяют между собой рынки и конкурсные заявки или снижают выпуск3.
После прочтения первых двух глав может показаться, что мягкий подход оправдан. Государственное вмешательство в виртуальную экономику выглядит излишним: рынки являются динамичными и конкурентными. Часто утверждают, что новые механизмы онлайнового бизнеса изменили рынки к лучшему. Алгоритмы компаний, используя нарастающий поток данных, казалось бы, обеспечивают совершенные стратегии для максимизации рентабельности. Эти процессы порождают новые формы конкуренции и торговли. Недостаточная конкуренция в привычном виде (сговор, монополия и ценовая дискриминация) по логике вещей должна редко встречаться в цифровом мире, где до конкурентов – один щелчок мыши. При наличии ценовых алгоритмов, анализирующих гораздо больше данных о состоянии рынка, чем смогли бы люди за всю свою жизнь, и реагирующих в реальном времени, мы оказываемся на пути к более динамичному миру торговли.
Прежде чем нанести американскому Министерству юстиции чувствительное поражение, Апелляционный суд по девятому округу4 сначала воздал хвалу невидимой руке, при этом порицая страны с централизованной плановой экономикой (и регулирование цен):
Конкуренция является двигателем нашей системы свободного предпринимательства. В отличие от стран с централизованной плановой экономикой, где решения о производстве и распределении принимаются государственными чиновниками, которые, казалось бы, видят общую картину и знают, как правильно поступать, капитализм опирается на децентрализованное планирование – на миллионы производителей и потребителей, ежегодно принимающих сотни миллионов отдельных решений, – с целью определить, что и в каком количестве будет производиться. Конкуренция играет ключевую роль в данном процессе: она задает базовые рамки для производителей и продавцов товаров, чтобы предоставить потребителю более качественный товар по более низкой цене; она вытесняет неэффективных и предельных производителей, высвобождая ресурсы для более рентабельных направлений использования; она способствует товарному разнообразию, предоставляя потребителям возможности выбора, соответствующие широкому ряду личных предпочтений; она не позволяет увековечивать концентрацию экономического влияния, так как даже крупнейшая компания способна уступить долю рынка более энергичному и целеустремленному конкуренту. Если, как говорят, рыночной экономикой управляет невидимая рука, то конкуренция, несомненно, – это тот кастет, которым она подкрепляет свои решения5.
Почему суд отступил от темы, неизвестно. Но для регулирования наступили тяжелые времена. Теперь даже социалистические страны превозносят свободный рынок. Например, Китай в 2007 г. ввел в действие антимонопольный закон с «целью предотвращения и ограничения проявлений монопольного поведения, защиты честной рыночной конкуренции, повышения экономической эффективности, соблюдения интересов потребителей и общества в целом и содействия полноценному развитию социалистической рыночной экономики»6.
С 1980 г. США и другие страны стремились сокращать регулирование, считая, что мягкое применение антимонопольного права более продуктивно. Как предупреждал антимонопольный департамент Министерства юстиции США, «государственное регулирование может оказаться несовершенным и очень дорогостоящим заменителем обычного “регулирования” силами свободного рынка. Соответственно, исключения из общего правила свободной рыночной конкуренции (которое защищает антимонопольное правоприменение) должны допускаться лишь при убедительных доказательствах того, что конкуренция невозможна или не согласуется с какой-то более важной общественной задачей»7. Таким образом, современная интерпретация «невидимой руки»8 Адама Смита стала ключевой для смены подходов к антимонопольному правоприменению.
Многие приверженцы неоклассической экономической теории исходят из того, что конкуренция является «самопроизвольным процессом»9, в котором без вмешательства государственного регулятора происходит эффективное размещение ресурсов там, где они выше ценятся. Попытка любой компании добиться рыночной власти или сохранить ее, скорее всего, окажется безуспешной благодаря другим информированным «максимизаторам прибыли» – новым игрокам или нынешним конкурентам. Главными поборниками этой точки зрения были экономисты и юристы, связанные с Чикагским университетом10. Они исходили из общих предположений, что участники рынка рациональны, эгоистичны и настойчиво преследуют свои цели; что большинство рынков являются конкурентными; что слияния и вертикальные схемы организации бизнеса зачастую обеспечивают эффективность и что рыночные силы во многих случаях обрекают любую попытку воспользоваться рыночной властью на провал.
Государство, согласно данной теории, действует за рамками свободного рынка и обязано подтверждать необходимость своего вмешательства и «вытеснения» конкуренции. Любое предложение улучшить действие конкуренции или регулировать ее попахивает социализмом и промышленной политикой. Государственное вмешательство следует ограничивать явными и затяжными эпизодами провала рынка, среди которых «лишь явная фиксация цен и очень крупные горизонтальные слияния (слияния в монополию) заслуживают серьезного беспокойства»11. Некоторые считают, что даже в этом случае государство обязано действовать осторожно. Стихийные силы свободного рынка в конечном итоге возьмут верх над этой недолговечной рыночной властью – за счет расширения деятельности старых компаний или появления новых.
Согласно теории чикагской школы, государство чаще приносит больше вреда, чем пользы. В попытке предотвратить негативные проявления рыночной власти государство может помешать полезной деятельности. Проблема в том, что рыночным силам, возможно, будет трудно преодолеть эти препоны со стороны государства, в отличие от помех, созданных самим рынком. Большая проблема, связанная с государственным вмешательством, связана с риском ошибочного воздействия, которое способно ухудшить проконкурентную среду, и силы рынка не смогут быстро преодолеть такие последствия. Напротив, ошибочное бездействие в конце концов будет исправлено приходом новых игроков или расширением деятельности старых12.
В администрации Рейгана придерживались неоклассических воззрений чикагской школы на экономику (об устранении или минимизации ограничений свободного рынка со стороны государства). Разделяя взгляды администрации Рейгана о том, что государственные учреждения – неизбежное зло13, апологеты конкуренции подчеркивали, что государственное вмешательство, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, так как оно мешает рынкам эффективно распределять редкие ресурсы. Как следствие, споры отдельных экономистов неоклассического направления затрагивают необходимость вмешательства государства в работу отдельных рынков и его сроки.