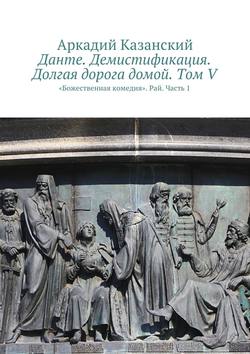Читать книгу Данте. Демистификация. Долгая дорога домой. Том V - Аркадий Казанский - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вместо Предисловия к «Раю»
Своеручные записки Княгини Натальи Борисовны Долгорукой, Дочери генерал-фельдмаршала Графа Бориса Петровича Шереметева
ОглавлениеПечатано по распоряжению Комитета состоящего под Высочайшим Государя Императора покровительством Императорского Общества Любителей Древней Письменности
1913 год. Секретарь В. Майков.
Рукопись «Своеручные записки Княгини Натальи Борисовны Долгорукой» принадлежавшая княжне Екатерине Дмитриевне Долгорукой, была поднесена княжной Великому Князю Сергею Александровичу (1857 – 1905 годы) и хранилась в его библиотеке в селе Ильинском.
По кончине Великого Князя Сергея Александровича рукопись была передана Великою Княгиней Елизаветой Фёдоровной (1864 – 1918 годы) Его Императорскому Величеству (Николаю II).
В настоящее время, с разрешения Его Величества «Записки Княгини Долгорукой» напечатаны на средства г. председателя графа С. Д. Шереметева по вышеуказанной рукописи, с соблюдением правописания её, при Императорском Обществе Любителей Древней Письменности.
Княгиня Наталья Борисовна родилась января 17 дня 1714 года. – Вышла замуж апреля 5 дня 1730 года. Возвратилась из Сибири в 1740 году, а в Москву приехала 17-го того же года. В 1757 году, марта 18 дня, приняла схиму и скончалась в Киеве во Флоровском монастыре июля 3-го дня 1771 года. Прах страдалицы покоится у входа Киево-Печерской Лавры.
1767-о году, января 7-го дня.
Как скоро вы от меня поехали, осталась я в уединении, пришло на меня уныние, и так отягощена была голова моя беспокойными мыслями, казалось, что уже от той тягости к земле клонюсь. Не знала, чем бы те беспокойные мысли разбить. Пришло мне на память, что вы всегда меня просили, чтобы по себе оставила на память журнал, что мне случилось в жизни моей достойно памяти, и каким средством я жизнь проводила. Хотя она очень бедственна и до сих пор, однако в удовольствие ваше хочу вас тем утешить и желание ваше или любопытство исполнить, когда то будет Богу угодно и слабость моего здоровья допустит. Хотя я и не могу много писать, но ваше прошение меня убеждает, сколько можно буду стараться, чтобы привести на память всё то, что случилось при жизни моей.
Не всегда бывают счастливы благородно рожденные, по большей части находятся в свете из знатных домов претерпевающие бедствия, а от подлости рождённые происходят в великие люди, знатные чины и богатство получают. На то есть определение Божие. Когда и я на свет родилась, надеюсь, что все приятели отца моего и знающие дом наш благословили день рождения моего, видя радующихся родителей моих и благодарящих Бога о рождении дочери. Отец мой и мать надежду имели, что я им буду утеха в старости. Казалось бы, и так по пределам света сего, ни в чём бы недостатка не было. Вы сами небезызвестны о родителях моих, от кого на свет произведена, и дом наш знаете, который и до сих пор во всяком благополучии состоит, братья и сёстры мои живут в удовольствие мира сего, честями почтены, богатством изобильны. Казалось, и мне никакого следа не было к нынешнему моему состоянию, для чего бы и мне не так счастливой быть, как и сёстры мои. Я ещё всегда думала перед ними преимущество иметь, потому что я была очень любима у матери своей и воспитана отменно от них, я же у них и старшая. Надеюсь, тогда все обо мне рассуждали: такова великого господина дочь, знатность и богатство, кроме природных достоинств, обратит очи всех знатных женихов на себя, и я по человеческому рассуждению совсем определена к благополучию; но Божий суд совсем не сходен с человеческим определением: он по своей власти иную мне жизнь назначил, о которой никогда и никто вздумать не мог, и ни я сама – я очень имела склонность к веселью.
Я осталась малолетней после отца моего, не больше как пяти лет, однако я росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, которая старалась о воспитании моём, чтобы ничего не упустить в науках и все возможности употребляла, чтобы мне умножить достоинств. Я ей была очень дорога: льстилась мною веселиться, представляла себе, когда приду в совершенные лета, буду добрый товарищ во всяких случаях, и в печали и радости, и так меня содержала, как должно благородной девушке быть, пребезмерно меня любила, хотя я тому и недостойна была. Однако всё моё благополучие кончилось: смерть меня с нею разлучила.
Я осталась после милостивой своей матери 14 лет. Это первая беда меня встретила. Сколько я ни плакала, только ещё всё недоставало, кажется, против любви её ко мне, однако ни слезами, ни рыданием не воротила: оставалась я сиротою, со старшим братом, который уже стал своему дому господин. Вот уже совсем моя жизнь переменилась. Можно ли все те горести описать, которые со мной случились, надобно молчать. Хотя я льстилась впредь быть счастливой, однако очень часто источники из глаз лились. Молодость лет несколько помогала терпеть в ожидании предбудущего счастья. Думала, ещё будет и моё время, повеселюсь на свете, а того не знала, что вышняя власть грозит мне бедами, и что надежды на будущее обманчивы бывают
И так я после матери своей всех компаний лишилась. Пришло на меня высокоумие, вздумала себя сохранить от излишнего гулянья, чтобы мне чего не понести никакого поносного слова – тогда очень наблюдали честь; и так я сама себя заключила. И правда, что тогдашнее время не такое было обхождение: в свете очень примечали поступки знатных или молодых девушек. Тогда не можно было так мыкаться, как в нынешнем веке. Я вам так пишу, будто я с вами говорю, и для того вам от начала жизнь свою веду. Вы увидите, что я и в самой молодости весело не жила и никогда сердце моё большого удовольствия не чувствовало. Я свою молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания в рассуждении том, что ещё будет время к моему удовольствию, заранее приучала себя к скуке. И так я жила после матери своей два года. Дни мои проходили безутешно.
Тогда обыкновенно всегда, где слышат невесту богатую, тут и женихи льстятся. Пришло и моё время, чтобы начать ту благополучную жизнь, которой я льстилась. Я очень счастлива была женихами; однако то оставлю, а буду вам писать, что на деле произошло. Правда, что начало было очень велико: думала, я – первая счастливица на свете, потому что первая персона в нашем государстве был мой жених, при всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонным; напротив того и я ему отвечала, любила его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела и нежели он мне женихом стал не имела, но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то склонила. Правда, что сперва это очень громко было, все кричали: ах, как счастлива. Моим ушам не противно было это эхо слышать, а не знала, что это счастье мной поиграет, показало мне только, чтоб я узнала, как люди живут в счастье, которых Бог благословит. Однако я тогда ничего не разумела, молодость лет не допускала ни о чём предбудущем рассуждать, а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущей. Казалось, ни в чём нет недостатка. Милый человек в глазах, в рассуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывный, а притом природная честь, богатство, от всех людей почтение, всякой ищет милости, рекомендуясь под мою протекцию. Подумайте, будучи девке в пятнадцать дет так обрадованной, я не иное что думала, как все сферы небесные для меня переменились.
Между тем начались у нас приготовления к сговору нашему. Правду могу сказать, редко кому случилось видеть такое знатное собрание: вся Императорская фамилия была на сговоре, все чужестранные министры, наши все знатные господа, весь генералитет; одним словом сказать, столько было гостей, сколько дом наш мог поместить обоих персон: не было ни одной комнаты, где не было бы полно людей. Обручение наше было в зале духовными персонами, один архиерей и два архимандрита. После обручения все его сродники меня дарили очень богатыми дарами, бриллиантовыми серьгами, часами, табакерками и готовальнями и всякой галантереей. Мои бы руки не могли всего забрать, когда бы мне не помогали принимать наши. Перстни были, которыми обручались, его в двенадцать тысяч, а мои в шесть тысяч. Напротив и мой брат жениха моего дарил: шесть пудов серебра, старинные великие кубки и чаши золочёные. Казалось мне тогда, по моему молодоумию, что это всё прочно и на целый мой век будет, а того не знала, что в здешнем свете ничего нет прочного, а всё на час. Сговор мой был в семь часов пополудни; это была уже ночь, для того вынуждены были смоленые бочки зажечь для света, чтобы видно было разъезжаться гостям, теснота превеликая от карет была. От того великого огня видно было, сказывают, что около ограды дома нашего столько было народа, что вся улица заперлась, и кричал простой народ: слава Богу, что отца нашего дочь идёт замуж за великого человека, восстановит род свой и возведёт братьев своих на степень отцову.
Надеюсь, вам довольно известно, что отец мой был первый фельдмаршал и что очень любим был народом, и до сих пор его помнят. О прочих всех сговорных церемониях или веселье умолчу: нынешнее моё состояние и звание запрещает. Одним словом сказать: всё то, что можно было вздумать, ничего не упущено было. Это моё благополучие и веселье долго ли продолжалось? Не более, как от декабря 24 дня до января 18 дня. Вот моя обманчивая надежда кончилась! Со мной так случилось, как с сыном царя Давида Нафаном: лизнул медку, и пришло время умереть. Так и со мной случилось: за 26 дней благополучных, или сказать радостных, 40 лет по сей деть стражду; за каждый день по два года приходится без малого, ещё шесть дней надобно вычесть. Да кто может знать предбудущее?. Может быть, и дополнится, когда продолжится страдательная жизнь моя.
Теперь надобно уже иную материю зачать. Ум колеблется, когда приведу на память, что после всех этих веселий меня постигло, которые, мне казалось, на веки нерушимы будут. Знать, что не было мне тогда друга, кто бы меня научил, чтоб по этой скользкой дороге с опаской ходила. Боже мой, какая буря грозная восстала, со всего света беды совокупились! Господи, дай мне силы изъяснить мои беды, чтобы я могла их описать для знания желающих и для утешения печальных, чтобы, помня меня, утешались. И я была человек, все дни жизни своей проводила в бедах и всё опробовала, гонение, странствие, нищету, разлучение с милым, всё, что кто может вздумать. Я не хвалюсь своим терпением, но о милости Божьей похвалюсь, что Он мне дал столько силы, что я перенесла и по сие время несу; невозможно бы человеку смертному такие удары вынести, когда не свыше сила Господня подкрепляла. Возьмите в рассуждение моё воспитание и нынешнее моё состояние.
Вот начало моей беды, чего я никогда не ожидала. Государь наш (император Пётр II Алексеевич) окончил жизнь свою паче чаяния моего, чего я никогда не ожидала, сделалась коронная перемена. Знать, так было Богу угодно, чтоб народ за грехи наказать; отняли милостивого государя и великий плач был в народе. Все сродники мои съезжаются, жалеют, плачут обо мне, как мне эту напасть объявить, а я обыкновенно долго спала, часу до девятого; однако, как скоро проснулась, вижу – у всех глаза заплаканы, как они не стереглись, только видно было; хотя я и знала, что государь болен и очень болен, однако я великую в том надежду имела на Бога, что Он нас не оставит сирых. Однако, знать, мы того достойны были, по необходимости принуждены были объявить. Как скоро эта новость дошла до ушей моих, что уже тогда со мною было – не помню. А как опомнилась, только и твердила: ах, пропала, пропала! Не слышно было иного ничего от меня, что пропала; как кто не пытался меня утешить, только не можно было плач мой пресечь, ни уговорить. Я довольно знала обыкновение своего государства, что все фавориты после своих государей пропадают, чего было и мне ожидать. Правда, что я не так много думала, как со мной сделалось, потому хотя мой жених и любим государем и знатные чины имел, и вверены ему были всякие дела государственные, но подкрепляли меня несколько честные его поступки, зная его невинность, что он никаким непристойным делом не причастен был. Мне казалось, что не можно без суда человека обвинить и подвергнуть гневу или отнять честь или имение. Однако после уже узнала, что при несчастливом случае и правда не помогает. Итак, я плакала безутешно; свойственники, сыскав средства, чем бы меня утешить, стали меня уговаривать, что я ещё человек молодой, а так себя безрассудно сокрушаю; можно этому жениху отказать, когда ему будет худо; будут другие женихи, которые не хуже его достоинством, разве только не такие высокие чины будут иметь, – а в то время, правда, что жених очень хотел меня взять, только я на то несклонна была, а сродникам моим всем хотелось за того жениха меня выдать. Это предложение так мне тяжело было, что я ничего на то не могла им ответить. Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли это совесть, как он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему. Я такому бессовестному совету согласиться не могла, а так положила своё намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей любви. Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась, для чего я за него пошла, не дала в том безумия Бога: Он тому свидетель, все, любя его, сносила, сколько можно мне было, ещё и его подкрепляла. Мои сродники имели другое рассуждение, такой мне совет давали, или, может быть, меня жалели. К вечеру приехал мой жених ко мне, жалуясь на своё несчастье, притом рассказывал о смерти жалости достойной, как Государь скончался, что всё в памяти был и с ним прощался. И так говоря, плакали оба и присягали друг другу, что нас ничто не разлучит, кроме смерти. Я готовая была с ним хоть все земные пропасти пройти.
И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья, все спрятались, и ближние отдалились от меня, все меня оставили в угоду новым фаворитам, все стали уже меня бояться, чтобы я навстречу с кем не попалась, всем подозрительно. Лучше бы тому человеку не родиться на свете, кому на время быть велику, а после притти в несчастье: все станут презирать, никто говорить не хочет. Выбрана была на престол одна принцесса крови (Анна Иоанновна), которая никакого пути не имела к короне. Между тем приготовлялась церемония погребения. Пришёл тот несчастливый день. Нести надобно было государево тело мимо нашего дома, где я сидела под окошком, смотря на ту плачевную церемонию. Боже мой, как дух во мне удержался! Началось духовными персонами, множество архиереев, архимандритов и всякого духовного чина; потом, как обыкновенно бывают такие высочайшие погребены, несли государственные гербы, кавалеры, разные ордена, короны; в том числе и мой жених шёл перед гробом, несли на подушке кавалерию, и два ассистента вели под руки. Не могла его видеть от жалости в таком состоянии: епанча траурная предлинная, флер на шляпе до земли, волосы распущенные, сам так бледен, что никакой живости нет. Поравнявшись против моих окон, взглянул плачущими глазами с тем знаком или миной: Кого погребаем! В последний, в последний раз провожаю! Я так обеспамятовала, что упала на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом и гроб везут. Отступили от меня уже все чувства на несколько минут, а как опомнилась, оставя все церемонии, плакала, сколько моё сердце дозволило, рассуждая мыслью своей, какое это сокровище земля принимает, на которое, кажется, и солнце с удивлением сияло; ум сопряжен был с мужественною красотой, природное милосердие, любовь к подданным нелицемерная. О, Боже мой, дай великодушно понести сию напасть, лишение сего милостивого монарха! О, Господи, всевышний Творец, Ты всё можешь, возврати хоть на единую минуту дух его и открой глаза его, чтобы он увидел верного своего слугу, идущего перед гробом, потеряв всю надежду к утешению и облегчению печали его. И так окончилась церемония: множество знатных дворян следовало за гробом. Казалось мне, что и небо плачет, и все стихии небесные. Надеюсь между тем, и такие были, которые и радовались, чая в себе от новой государыни милости.
По несколько дней после погребения приготовляли торжественное восшествие новой государыни в столичный город, со звоном, с пушечной пальбой. В назначенный день поехала и я посмотреть её встречи, для того полюбопытствовала, что я её не знала отроду в лицо, кто она. Во дворце, в одной отхожей комнате, я сидела, где всю церемонию видела: она шла мимо тех окон, под которым я была и тут последний раз видела, как мой жених командовал гвардией; он был майор, отдавал ей честь на лошади. Подумайте, каково мне глядеть на это позорище. И с того времени в жизни своей я её не видела: престрашного была вида, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалеров идёт, всех выше головой, и чрезвычайно толста. Как я поехала домой, надобно было ехать через все полки, которые в строю были собраны; я поспешила домой, ещё не распущены были. Боже мой! Я тогда свету не видела и не знала от стыда, куда меня везут и где я; одни кричат: отца нашего невеста; подбегают ко мне: матушка наша, лишились мы своего государя; иные кричат: прошло ваше время теперь, не старая пора. Принуждена была всё это вытерпеть, рада была, что доехала до двора своего; вынес Бог из такого содома.
Как скоро вступила в самодержавство, так и стала искоренять нашу фамилию. Не так бы она злобна была на нас, да фаворит её (Бирон Эрнест Иоганн), который был безотлучно при ней, он старался наш род истребить, чтобы его на свете не было, по той злобе: когда её выбирали на престол, то между прочими пунктами написано было, чтобы этого фаворита, который при ней был камергером, в наше государство не ввозить, потому что она жила в своём владении, хотя и наша принцесса, да была выдана замуж, овдовевши жила в своём владении, а оставить его в своём доме, чтоб он у нас ни в каких делах не был, к чему она и подписалась; однако злодейство многих недоброжелателей своему отечеству все пункты переменило (пункты «Кондиций»), и дали ей во всём волю и всенародное желание уничтожили и его к ней по прежнему допустили. Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел дело с нами и искал, какими бы мерами нас истребить из числа живущих. Так публично говорил: да, мы той фамилии не оставим. Что он не напрасно говорил, но и в дело произвёл. Как он уже взошёл на великую степень, он не мог уже на нас спокойными глазами глядеть, он нас боялся и стыдился: он знал нашу фамилию, за сколько лет рождение князья имели своё владение, скольким коронам служили все предки. Наш род любили за верную службу отечеству, жизни своей не щадили, сколько на войнах головы свои положили; за такие их знатные службы были от других отмечены, награждены великими чинами, кавалериями; и в чужих государствах многие спокойствие делали, где имя их славно. А он был самый подлый человек, а дошёл до такого великого градуса, одним словом сказать, только одной короны недоставало, уже все руку его целовали, и что хотел, то делал, уже титуловали его ваше высочество, а он ни что иное был, как башмачник, на дядю моего сапоги шил, сказывают, мастер превеликий был, да красота его до такой великой степени довела. Бывши в таких высоких мыслях, думал, что не удастся ему до конца привести своё намерение: он не истребит знатные роды. Так и сделал: не только нашу фамилию, но и другую такую же знатную фамилию сокрушил, разорил и в ссылки сослал. Уже всё ему было покорно, однако о том я буду молчать, чтобы не перейти пределов. Я намерена свою беду писать, а не чужие пороки обличать.
Не знал он, с чего начать, чтобы нас сослать. Первым делом стал к себе призывать из тех же людей, которые нам прежде друзья были, ласкал их, выспрашивал, как мы жили и не сделали ли кому обиды, не брали ли взяток. Нет, никто ничего не сказал. Он этим недоволен был. Велел указом объявить, чтобы все и всякие без опасения подавали самой государыне челобитные, ежели кого чем обидели, – и того удовольствия не получил. А между тем всякие вести ко мне в уши приходят; иной скажет: в ссылку сошлют, иной скажет: чины и кавалерии (кавалерии – чины, звания и награды кавалера) отберут. Подумайте, каково мне тогда было! Будучи в 16 лет, ни от кого руку помощи не иметь и не с кем о себе посоветоваться, а надобно и дом, и долг, и честь сохранить и верность не уничтожить. Великая любовь к нему весь страх изгонит из сердца, а иногда нежность воспитания и природа в такую горесть приведёт, что все члены онемеют от несносной тоски. Куда какое это злое время было! Мне кажется, при антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило. Кровь вся закипит, когда вспомню, какая это подлая душа, какие столбы поколебала, до основанья разорил, и до сих пор не можем исправиться. Что до меня касается, в здешнем свете на веки пропала.
И так моё жалкое состояние продолжалось по апрель месяц. Только и отрады мне было, когда его вижу; поплачем вместе, и так домой поедем. Куда уже все веселья ушли, никакого сходства не было, что это жених к невесте ездит. Что же, между тем, как домашние были огорчены! Боже, дай мне всё то забыть! Наконец, надобно уже наш несчастливый брак оканчивать; хотя как ни откладывали день ото дня, но, видя моё непременное намерение, принуждены согласиться. Брат тогда был болен старший, а младший, который меня очень любил, жил в другом доме по той причине, что он тогда не болел ещё оспой, а старший брат был болен оспой. Ближние сродники все отступились, дальние и пуще не имели резону, бабка родная умерла, и так я осталась без призрения. Сам Бог меня давал замуж, а больше никто. Не можно всех тех беспорядков описать, что со мной тогда были. Уже день назначили свадьбе; некому проводить, никто из родных не едет, да некого и звать. Господь сам умилосердил сердца двух старушек, моих свойственниц, которые меня провожали, а то принуждена была с рабой ехать, а ехать надобно было в село, 15 верст от города, там наша свадьба была. В этом селе они всегда летом жили. Место очень весёлое и устроенное, палаты каменные, пруды великие, оранжереи и церковь. В палатах после смерти государевой отец его со всей фамилией там жил. Фамилия их была немалая; я всё презря, на весь страх: свёкор был и свекровь, три брата, кроме моего мужа, и три сестры. Ведь надобно бы о том подумать, что я всем меньшая и всем должна угождать; во всём положилась на волю Божию: знать, судьба мне так определила. Вот уже как я стала прощаться с братом и со всеми домашними, кажется бы, и варвар сжалился, видя мои слёзы; кажется, и стены дома отца моего помогали мне плакать. Брат и домашние так много плакали, что из глаз меня со слезами отпустили. Какая это разница – свадьба со сговором; там все кричали: ах, как счастлива, а тут провожают и все плачут; знать, что я всем жалка была. Боже мой, какая перемена! Как я выехала из отцовского дома, с тех пор целый век странствовала. Привезли меня в дом свекров, как невольницу, всю расплаканную, свету не вижу перед собой. Подумайте, и с добрым порядком замуж идти надобно подумать последнее счастье, не только в таком состоянии, как я шла. Я приехала в одной карете да две вдовы со мной сидят, а у них все родные приглашены, дядья, тётки, и пуще мне стало горько. Привезли меня как самую беднейшую сироту; принуждена всё сносить. Тут нас в церкви венчали.
По окончании свадебной церемонии провожатые мои меня оставили, поехали домой. И так наш брак был достоин плача, а не веселья. На третий день по обыкновению я стала собираться с визитами ехать по ближним его сродникам и рекомендовать себя в их милость. Всегда можно было из того села ехать в город после обеда, домой ночевать приезжали. Вместо визитов, сверх чаяния моего, мне сказывают, приехал де секретарь из сената; свекор мой должен был его принять; он ему объявляет: указом велено де вам ехать в дальние деревни и там жить до указа. Ох, как мне эти слова не полюбились; однако я креплюсь, не плачу, а уговариваю свёкра и мужа: как можно без вины и без суда сослать; я им представляю: поезжайте сами к государыне, оправдайтесь. Свёкор, глядя на меня, удивляется моему молодоумию и смелости. Нет, я не хотела свадебной церемонии пропустить, не рассудя, что уже беда; подбила мужа, уговорила его ехать с визитом. Поехали к дяде родному, который нас с тем встретил: был ли у вас сенатский секретарь; у меня был, и велено мне ехать в дальние деревни жить до указа. Вот тут и другие дядья съехались, все то же сказывают. Нет, нет, я вижу, что на это дело нет починки; это мне свадебные конфетки. Скорее домой поехали, и с тех пор мы друг друга не видали, и никто ни с кем не прощался, не дали время.
Я приехала домой, у нас уже собираются; велено в три дня, чтоб в городе не было. Принуждены судьбе повиноваться. У нас такое время, когда к несчастью, то нету уже никакого оправдания, не лучше турок: когда б прислали петлю, должен удавиться. Подумайте, каково мне тогда было видеть: все плачут, суетятся, сбираются, и я суечусь, куда еде, не знаю, и где буду жить – не ведаю, только что слезами обливаюсь. Я ещё и к ним ни к кому не привыкла: мне страшно было только в чужой дом перейти. Как это тяжело! Так далеко везут, что никого своих не увижу, однако в рассуждении для милого человека всё должна сносить.
Стала я сбираться в дорогу, а как я очень молода, никуда не езжала и, что в дороге надобно, не знала никаких обстоятельств, что может впредь быть, обеим нам с мужем было тридцать семь лет, он вырос в чужих, жил всё при дворе; он всё на мою волю отдал, не знала, что мне делать, научить было некому. Я думала, что мне ничего не надобно будет, и что очень скоро нас воротят, хотя и вижу, что свекровь и золовки с собой очень много берут из бриллиантов, из галантереи, всё по карманам прячут, мне до того и нужды не было, я только хожу за ним следом, чтобы из глаз моих не ушёл, и так чисто собралась, что имела при себе золото, серебро – всё отпустила домой к брату на сохранение; довольно моему глупому тогдашнему рассудку изъяснить вам хочу: не только бриллиантов что оставить для себя и всяких нужд, всякую мелочь, манжеты кружевные, чулки, платки шёлковые, сколько их было дюжин, всё отпустила, думала, на что мне там, всего не переносить; шубы все отобрала у него и послала домой, потому что они все были богатые; один тулуп ему оставила, да себе шубу, да платья чёрные, в чём ходила тогда по государе. Брат прислал мне на дорогу тысячу рублей; на дорогу вынула четыреста, а то назад отослала; думаю, на что мне так много денег прожить, мы поедем на общем коште; мой от отца не отделен. После уже узнала глупость свою, да поздно было. Только на утешение себе оставила одну табакерку золотую, и то из за того, что царская милость. И так мы, собравшись, поехали; с нами было собственных людей 10 человек, да лошадей его любимых верховых 5.
Я дорогою уже узнала, что я на своём коште еду, а не на общем. Едем в незнакомое место и путь в самый разлив, в апреле, где все луга потопляет вода, и маленькие разливы бывают озёрами, а ехать до той деревни, где нам жить, восемьсот вёрст. Из моей родни никто ко мне не поехал проститься – или не смели или не хотели, Бог то рассудит; а только со мной поехала моя мадам, которая за маленькою за мной ходила, иноземка, да девка, которая при мне жила; я и тем была рада. Мне как ни было тяжело, однако принуждена дух свой стеснять и скрывать свою горесть для мужа милого; ему и так тяжело, что сам страждет, притом же и видит, что его ради погибаю. Я в радости их не участница была, а в горести им товарищ, да ещё всем меньшая, надобно всякому угодить, я надеялась на свой нрав, что всякому услужу. И так, куда не приедем на стан, пошлём закупать сена, овёс лошадям. Стала уже и я в экономию входить; вижу, что денег много идёт. Муж мой пойдёт смотреть, как лошадям корм задают, и я с ним, от скуки что было делать; да эти лошади, право, и стоили того, чтобы за ними смотреть: ни прежде, ни после таких красавиц не видала; когда б я была живописец, не устыдилась бы я их портреты написать.
Девяносто вёрст от города как отъехали, в первый провинциальный город приехали; тут случилось нам обедать. Вдруг явился к нам капитан гвардии, объявляет нам указ: велено де с вас кавалерии снять; в столице, знать, стыдились так безвинно ограбить, так на дорогу выслали. Боже мой, какое это их правосудие! Мы отдали тотчас с радостью, чтобы их успокоить, думали, они тем будут довольны: обруганы, сосланы. Нет, у них не то на уме. Поехали мы в путь свой, отправивши его, непроходимыми стезями, никто дороги не знает; лошади свои все тяжёлые, кучера только знают, как по городу провести. Настигла нас ночь; принуждены стать в поле, а где, не знаем, на дороге ли или свернули, никто не знает, потому что всё воду объезжали, стали тут, палатку поставили; это надобно знать, что наша палатка будет всех дальше поставлена, потому что лучшее место выберут свекру, подле по близости золовкам, о там деверям холостым, а мы будто иной партии: последнее место нам будет. Случалось и в болоте: как постель снимут, мокра, иногда и башмаки полны воды. Это мне очень памятно, что весь луг был зелёный, а иной травы не было, как только чеснок полевой, и такой был дух тяжёлый, что у всех головы болели. И когда мы ужинали, то мы все видели, что два месяца взошло: ординарный большой, а другой подле него поменьше, и мы долго так смотрели и так их оставили, спать пошли. Поутру, как мы встали, свет нас осветил; удивлялись сами, где мы стоим: в самом болоте, а мне на дороге. Как нам Бог помиловал, что мы, где не увязли ночью, так оттуда мы насилу на прямую дорогу выбрались.
Маленькая у нас утеха была – псовая охота. Свекор превеликий охотник был; где случится какой перелесочек, место для них покажется хорошо, верхами сядут и наедут, пустят гончих; только провождение было времени или сказать скуке; а я останусь одна, дам глазам своим волю и плачу, сколько хочу. В один день так случилось: мой товарищ поехал верхом, а я осталась в слезах. Очень уже поздно, стало смеркаться и уже гораздо темно, вижу, против меня скачут двое верховых, прискакали к моей карете, кричат: стой! Я удивилась, слышу голос мужа моего и с меньшим братом, который весь мокрый; говорит мне муж: вот он избавил меня от смерти. Как же я испугалась! Как де мы поехали от вам и всё разговаривали и сшиблись с дороги, видим мы, за нами никого нет, вот мы по лошадям ударили, что скорее кого своих наехать. Видим, что поздно, приехали к ручью, показался очень мелок. Так мой муж хотел наперёд ехать опробовать, как глубок, так он бы конечно утонул, потому что под ним лошадь была не проворна и он был в шубе; брат его удержал, говорит: постой, на тебе шуба тяжела, а я в одном кафтане, подо мною же и лошадь добра, она меня вывезет, а после вы переедете. Как это выговоря, тронул свою лошадь, она передними ногами ступила в воду, а задними уже не успела, как ключ ко дну, так круто у берега было и глубоко, что не могла задними ногами справиться, одна только шляпа поплыла, однако она очень скоро справилась, лошадь была проворная, а он крепко на ней сидел, за гриву ухватился. По счастью их, человек их наехал, который от них отстал. Видя их в такой беде, тотчас кафтан долой, бросился в воду – он умел плавать – ухватил за волосы и притащил к берегу. И так Бог его жизнь спас, и лошадь выплыла. Так я испугалась, и плачу и дрожу вся; побожилась, что я его никогда верхом не пущу. Спешили скорее доехать до места; насилу его отогрели, в деревню приехавши.
После, несколько дней спустя, приехали мы ночевать в одну маленькую деревеньку, которая на самом берегу реки, а река преширокая. Только что мы расположились, палатки поставили, идут к нам множество мужиков, вся деревня, валятся в ноги, плачут, просят: «Спасите нас, сегодня к нам подкинули письмо разбойники, хотят к нам приехать нас всех побить до смерти, и деревню сжечь. Помогите вы нам, у вас есть ружья, избавьте нас от напрасной смерти, нам оборониться нечем, у нас кроме топоров ничего нет. Здесь воровское место: на этой неделе здесь в соседстве деревню совсем разорили, мужики разбежались, а деревню сожгли». Ах, Боже мой, какой же на меня страх пришёл! Боюсь до смерти разбойников; прошу, чтоб уехать оттуда, никто меня не слушает. Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали, и так готовились на драку; однако Бог избавил нас от той беды. Может быть, они и подъезжали водою, да побоялись, видя такой великий обоз, или и не были. Чего же мне эта ночь стоила! Не знаю, как я её пережила; рада, что свету дождалась, слава Богу, уехала.
И так мы три недели путались и приехали в свои деревни, которые были на половине дороги, где нам определено было жить. Приехавши, мы расположились на некоторое время прожить, отдохнуть нам и лошадям. Я очень рада была, что в свою деревню приехали. Казна моя уже очень истощала; думала, что моим расходам будет перемена, не всё буду покупать, по крайней мере, сена лошадям не куплю. Однако я не долго об этом думала; не больше мы трёх недель тут прожили, паче чаяния нашего вдруг ужасное нечто нас постигло.
Только что мы отобедали – в этом селе был дом господский и окна были на большую дорогу – взглянула я в окно, вижу я пыль великую по дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Как стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска закрытая. Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут: в коляске офицер гвардии, а по телегам солдат 24 человека. Тотчас узнали мы свою беду, что ещё их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекру, а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя, боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем. Можно ли эту беду описать. Я не могу ни у кого допроситься, что будет с нами, не разлучат ли нас. Великая сделалась тревога. Дом был большой, людей премножество, бегут все с квартир, плачут, припадают к господам своим, все хотят быть с ними неразлучно. Женщины, как есть слабые сердца, те кричат, плачут. Боже мой, какой это ужас! Кажется бы и варвар, глядя на это жалкое позорище, умилосердился.
Нас уже на квартиру не отпускают. Как я и прежде писала, что мы везде на отдельных квартирах стояли, так не поместились в одном доме. Мы стояли у мужика на дворе, а спальня наша была сарай, где сено кладут. Поставили у всех дверей часовых, примкнувши штыки. Боже мой, какой это страх, я от роду ничего подобного не видала и не слыхала! Велели наши командиры кареты закладывать, вино, что хотят нас вести, да не знаем – куда. Я так ослабела от страха, что на ногах не могу стоять. Войдите в моё состояние, каково мне тогда было. Только меня и подбодряло, что он со мною, и все, видя меня в таком состоянии, уверяют, что с ним неразлучна буду. Я бы хотела самого офицера спросить, да он со мной не говорит, кажется неприступным. Придёт ко мне в горницу, где я сижу, поглядит на меня, плечами пожмёт, вздохнёт и прочь пойдёт, а я спросить его не осмелюсь. Вот уже к вечеру велит нам в кареты садиться и ехать. Я уже опомнилась и стала просить, чтоб меня отпустили на квартиру собраться; офицер дозволил. Как я пошла – и два солдата за мною. Я не помню, как меня муж довёл до сарая того, где мы стояли; хотела я с ним поговорить и сведать, что с нами делается, и солдат тут, ни пяди от нас не отстаёт. Подумайте, какое жалостное состояние!
И так я ничего не знаю, что дальше с нами будет. Мои домашние собрались, я уже ничего не знаю; а мы сели в карету и поехали; рада я тому, что я одна с ним, можно мне говорить, а солдаты все за нами поехали. Тут уже он мне сказал: офицер объявил, что велено нас под жестоким караулом вести в дальний город, а куда – не велено сказывать. Однако свекор мой умилостивил офицера и привёл на жалость; сказал, что нас везут в остров, который отстоит от столицы 4 тысячи вёрст и больше, и там нас под жестоким караулом содержать, к нам никого не допускать, ни нас никуда, кроме церкви, переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать. Подумайте, каковы мне эти вести. Первое, лишилась дома своего и всех родных своих оставила, я же не буду и слышать о них, как они будут жить без меня. Брат меньшой мне был, который меня очень любил, сёстры маленькие остались. О, Боже мой, какая это тоска пришла, жалость, сродство, кровь вся закипела от несносности. Думаю, я уже никого не увижу своих, буду жить в странствии. Кто мне поможет в напастях моих, когда они не будут и ведать обо мне, где я, когда я ни с кем не буду корреспонденции иметь, или переписки; хотя я какую нужду не буду терпеть, руки помощи никто мне не подаст; а, может быть, им там скажут, что я уже умерла, что меня и на свете нет; они только поплачут и скажут: лучше ей умереть, а не целый век мучится. С этими мыслями ослабела, все мои чувства онемели, а после пролила слёзы. Муж мой очень испугался и жалел после, что мне сказал правду, боялся, чтоб я не умерла.
Истинная его ко мне любовь принудила дух свой стеснить и утаивать эту тоску и перестать плакать, и должна была и его ещё подкреплять, чтоб он себя не сокрушил: он всего света дороже был. Вот любовь до чего довела: всё оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним и скитаюсь. Этому причина всё непорочная любовь, которою я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что он один в сердце моём был. Мне казалось, что он для меня родился и я для него, и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении и не тужу, что мой век пропал, но благодарю Бога моего, что Он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за любовь жизнью своей заплатить, целый век странствовать и всякие беды сносить. Могу сказать – беспримерные беды: после услышите, ежели слабость моего здоровья допустит все мои беды описать.
И так нас довезли до города (Троицк – Печерский). Я вся расплакана; свекор мой очень испугался, видя меня в таком состоянии, однако говорить было нельзя, потому офицер сам тут с нами и унтер-офицер. Поставили уже нас вместе, а не на разных квартирах и у дверей поставили часовых, примкнуты штыки. Тут мы жили с неделю, пока приготовили судно, на чём нас вести водой (рекой Печорой). Для меня всё это ужасно было, должно было молчанием покрывать. Моя воспитательница, которой я от матери своей препоручена была, не хотела меня оставить, со мной и в деревню поехала; думала она, что там злое время проживём, однако не так сделалось, как мы думали, принуждена меня покинуть. Она человек чужестранный, не могла этой суровости вынести, однако, сколько можно ей было, эти дни старалась, ходила на то несчастное судно, на котором нас повезут, всё там прибирала, стены обивала, чтобы сырость насквозь не прошла, чтоб я не простудилась, павильон поставила, чуланчик выгородила, где нам иметь своё пребывание, и всё то оплакивала.
Пришёл тот горестный день, как нам надобно ехать. Людей нам дали для услуг 10 человек, а женщин на каждую персону по человеку, всего 5 человек. Я хотела свою девку взять с собой, однако золовки мои отговорили, для себя включили в то число свою, а мне дали девку, которая была помощницей у прачек, ничего делать не умела, как только платья мыть. Принуждена я им в том была согласиться. Девка моя плачет, не хочет от меня отстать, я уже её просила, чтоб она мне больше не докучала. Пускай так будет, как судьба определила. И так я хорошо собралась: даже рабы своей не имела, денег ни полполушки. Сколько имела при себе эта моя воспитательница, мне отдала; сумма не очень велика была – 60 р., с тем и поехала. Я уже не помню, пешком ли мы шли до судна, или ехали, недалеко река была от дома нашего. Пришлось мне тут расставаться со своими, потому что дозволено было им нас проводить. Вошла я в свою каюту, увидала, как она прибрана, сколько можно было помогала моему бедному состоянию. Пришло мне вдруг её благодарить за её ко мне любовь и воспитание, тут же и прощаться, что я уже её в последний раз вижу; ухватились мы друг друга за шеи, и так руки мои замерли, и я не помню, как меня с нею растащили. Опомнилась я в каюте или в чулане, лежу на постели, и муж надо мной стоит, за руку держит, спирт нюхать даёт. Я вскочила с постели, бегу наверх, думаю ещё хоть раз увижу, нет места того, знать, далеко уплыли. Тогда я потеряла зерно жемчужное, которое было у меня на руке, знать, я его в воду уронила, когда со своими прощалась. Да мне уже и не жаль было, не до него, жизнь тратится. Так я и осталась одна, всех лишась для одного человека. И так мы плыли всю ту ночь.
На другой день сделался великий ветер, буря на реке, гром, молнии, гораздо звончее на воде, нежели на земле, а я грома с рожденья боюсь. Судно вертит с боку на бок. Как гром грянет, так и попадают люди. Золовка меньшая очень боялась, та плачет и кричит. Я думала – свету преставление. Принуждены были к берегу пристать. И так всю ночь в страхе без сна проводили. Как скоро рассвело, погода утихла, мы поплыли в путь свой. И так мы три недели ехали водою. Когда погода тихая, я тогда сижу под окошком в своём чулане, когда плачу, когда платки мою: вода очень близко, а иногда куплю осетра и на верёвку его; он со мной рядом плывёт, чтобы не я одна невольница была и осётр со мною. А когда погода станет ветром судно шатать, тогда у меня станет голова болеть и тошнить, тогда выведут меня наверх на палубу и положат на ветру, и я до тех пор без чувств лежу, пока погода утихнет, и накроют меня шубой: на воде ветер очень пронзительный. Иногда и он для компании возле меня сидит. Как пройдёт погода, отдохну, только есть ничего не могла, всё тошнилось.
Однажды что случилось: погода жестокая поднялась и бьёт нас жестоко, а знающего никого нет, кто бы знал, где глубь, где мель и где можно пристать, ничего того нет, а всё мужичьё набраны от сохи, плывут, куда ветер гонит, а темно, уже ночь становится, не могут нигде пристать. Якорь бросили посреди реки – не держит, оторвало и якорь. Меня тогда уже не пустил мой сострадалец наверх, боялся, чтобы в этой кутерьме меня не задавили, а положил меня в чулане, который для нас сделан был, дощечками отгорожен, на кровать. Люди и работники все по судну бегают, кто воду выливает, кто якорь привязывает, и так все в работе. Я так замертво лежу, слышу я вдруг, нас как дёрнуло, и все стали кричать, шум превеликий стал. Что же это за крик? Все испугались. Нечаянно наше судно притянуло или прибило в залив, и мы стали между берегов, на которых лес, а больше берёзы; вдруг стала эта земля оседать несколько сажен и с деревьями, опустится под воду, и так ужасно лес зашумел под самое наше судно, и так нас кверху поднимет, а тотчас в тот ущерб втянет. И так было очень долго, и думали, что пропали, и командиры наши совсем были готовы спасать свою жизнь на лодках, а нас оставлять погибать. Наконец уже видно стало, как эту землю все рвало, что осталось её очень мало, а за нею вода, не видно ни берега, ни ширины её, а думают, что надобно быть озеру; когда б ещё этот остаток оторвало, то надобно б нам быть в этом озере. Ветер преужасный. Тогда-то я думала, что светопреставление, не знала, что делать, ни лежать, ни сидеть не смогла, только Господь милосердием Своим спас нашу жизнь. У работников была икона Николы Чудотворца, которую вынесли на палубу и стали молиться; тотчас же стал ветер утихать, и землю перестало рвать. Ветер стал утихать, и землю перестало рвать, и мы избавились той беды, выехали на свету на свой путь, из этого залива в большую реку пустились. И так нас Бог вынес.
Этот водяной путь много жизни моей унёс. Однако всё переносила всякие страхи, потому что ещё не конец моим бедам был, на большие готовилась, для того меня Бог и подкреплял. Доехали мы до города, где надобно нам выгружаться на берег и ехать сухим путём. Я была и рада, думала, таких страхов не буду видеть. После узнала, что мне нигде лучшего нет: не на то меня судьба определила, чтоб покоиться.
Будучи в пути, случилось ехать мне горами триста вёрст беспрерывно (переваливая Урал, с реки Печоры, от Вуктыла на реку Северная Сосьва, по которой сплавлялись до Берёзова), с горы да на гору вёрст по пяти; эти же горы усыпаны природным диким камнем, а дорожка такая узкая, что в одну лошадь впряжены, ежели в две лошади впрячь, то одна другую в ров спихнёт. По обе стороны рвы глубокие и лесом обросли, не можно описать, какой они вышины: как въедешь на самый верх горы и посмотришь по сторонам – неизмеримая глубина, только видны одни вершины леса, всё сосна да дуб. От роду такого и толстого леса не видала. Эта каменная дорога, я думала, что у меня сердце оторвётся. Сто раз я просилась: дайте отдохнуть, никто не имеет жалости, а спешат как можно наши командиры, чтоб домой возвратиться; а надобно ехать по целому день с утра до ночи, потому что жилья нет, а через сорок вёрст поставлены маленькие домики для пристанища проезжающим и для корма лошадям. Я и тогда думала, что меня живую не довезут. Всякий раз, что на камень колесо въедет и съедет, то меня в коляске ударит это, так больно тряхнёт, кажется, будто сердце оторвалось.
Между тем один день случилось, что целый день дождь шёл и так нас вымочил, что как мы вышли из колясок, то с головы до ног с нас текло, как бы мы из реки вышли. Коляски были маленькие, кожи все промокли, закрыться нечем, да и, приехавши на квартиру, обсушиться негде, потому что одна только изба, а фамилия наша велика, все хотят покою.
Со мной и тут несчастье пошутило: повадка или привычка прямо ходить – меня за то смалу били: ходи прямо, притом же и росту я немалого была, – как только в ту хижину вошла, где нам ночевать, только через порог переступила, назад упала, ударилась об матицу – она была очень низка – так крепко, что я думала, что с меня голова спала. Мой товарищ испугался, думал, я умерла. Однако молодость лет все мне помогла сносить всякие бедственные приключения. А бедная свекровь моя так простудилась от этой мокроты, что и руки и ноги отнялись и через месяц жизнь свою окончила.
Не можно всего описать, сколько я в этой дороге обеспокоена была, какую нужду терпела. Пускай бы я одна в страдании была, товарища своего не могу видеть безвинно страждущего. Сколько мы в этой дороге были недель – не упомню.
Доехали до провинциального города того острова, где нам определено жить. Сказали нам, что путь до того острова водою, и тут будет перемена: офицер гвардейский поедет обратно, а нас препоручит здешнего гарнизона офицеру с командою 24 человека солдат. Жили мы тут неделю, пока справили судно, на котором нам ехать, и сдавали нас с рук на руки, как арестантов. Это настолько жалко было, что и каменное сердце умягчилось; плакал очень при расставании офицер и говорил: теперь то вы натерпитесь всякого горя; это все люди необычайные, они с вами будут поступать, как с подлыми, никакого снисхождения от них не будет. И так мы все плакали, будто со сродниками расставались, по крайней мере, привыкли к нему; как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать.
Рассудилось нашим командирам переменить наш тракт и вести нас водою, или так и надобно было. Я и рада была, думала, мне легче будет, я от роду по воде не езжала и больших рек, кроме Москвы реки, не видала. Первое, как мы тогда назывались арестанты, это имя уже хуже всего на свете. От небрежения дали самое негодное, худое, так по имени нашему и судно, хотя бы на другой день пропасть, что все доски, из чего оно сделано, разошлись, потому что оно старое. В него нас и посадили, а караульные господа офицеры для своего спасения набрали лодок и ведут за собою. Что же я тут какого страху набралась! Как станет ветер судно наше поворачивать, оно и станет скрипеть, все доски станут раздвигаться, а вода и польёт в судно; а меня замертво положат на палубу, наверх; безгласна лежу, покуда погода утихнет и перестанет волнами судно качать, тогда меня вниз сведут. Я же так была странна, ни рабы своей не имела.
Как управились с судном, новый командир повёл нас на судно; процессия изрядная была: за нами толпа солдат с ружьями, как за разбойниками: я уже шла, вниз глаза опустя, не оглядывалась; смотрельщиков премножество на той улице, где нас ведут. Пришли мы к судну; я ужаснулась, как увидела: великая разница с прежним. Как мы тогда назывались арестанты, иного имени не было что уже в свете этого титула хуже, такое нам и почтение. Всё судно – из пазов доски вышли, насквозь дыры светятся, а хоть немножко ветер, так всё судно станет скрипеть; оно же чёрное, закоптелое; как работники раскладывали в нём огонь, так оно и осталось; самое негодное, никто бы в нём не поехал; оно было отставное, определено на дрова, да как очень заторопили, не смели долго нас держать, какое случилось, такое и дали, а может быть, и нарочно приказано было, чтоб нас утопить. Однако, как не водя Божия, доплыли до указанного места живы.
Принуждены были новому командиру покоряться; все способ искали, как бы его приласкать, не могли найти; да в ком и найти? Дай Бог и горе терпеть, да с умным человеком; какой этот глупый офицер был, из крестьян, да заслужил чин капитанский. Он думал о себе, что он очень великий человек и сколько можно надобно нас жестоко содержать, как преступников; ему казалось подло с нами и говорить, однако со всею своею спесью ходил к нам обедать. Вообразите это одно, сродственно ли с умным человеком? В чем он хаживал: епанча солдатская на одну рубашку да туфли на босу ногу, и так с нами сидит. Я была всех моложе, и невоздержна не могу терпеть, чтобы не смеяться, видя такую смешную натуру. Он, это видя, что я ему смеюсь, или то удалось ему приметить, говорит, смеясь: теперь счастлива ты, что у меня книги сгорели, а то бы с тобою заговорил. Как мне не горько было, только я старалась его больше ввести в разговор, только больше он мне ничего не сказал. Подумайте, кто нам командир был, и кому было препоручено, чтобы он усмотрел, когда бы мы что намерены были сделать. Чего они боялись, чтобы мы не ушли? Ему ли смотреть? Нас не караул их удержал, а удержала нас невинность наша. Думали, что со временем осмотрятся и возвратят нас в первое наше состояние. При том же мешала много и фамилия очень: велика была. И так мы с этим глупым командиром плыли целый месяц до того города, где нам жить.
Господи Иисусе Христе, Спасителю мой, прости моё дерзновение, что скажу с Павлом апостолом: беды в горах, беды в вертепах, беды от сродников, беды от разбойников, беды и от домашних! За всё благодарю моего Бога, что не попустил меня вкусить сладости мира сего. Что есть радость, я её не знаю. Отец мой Небесный предвидел во мне, что я поползновенна ко всякому злу, не попустил меня душою погибнуть, всячески меня смирял и все пути мои ко греху пресекал, но я окаянная и многогрешная не с благодарением принимала и всячески роптала на Бога, не вменяла себе в милость, но в наказания, но Он, как Отец милостивый, терпел моё безумие и творил волю Свою во мне. Будь имя Господне благословенно отныне и до века! Пресвятая Владычица Богородица, не оставь в страшный час смертный!
Какая б беда в свете меня миловала или печаль, не знаю. Когда соберу в память всю свою с младенчества жизнь, удивляюсь сама себе, как я все беды пережила, не умерла, ни ума не лишилась, всё то милосердием Божьим, и Его руководством подкреплена была. С четырёх лет стала сиротою, с 15-ти лет невольницей, заключена была в маленьком пустом местечке, где с нуждою иметь можно пропитание. Сколько же я видела страхов, сколько претерпела нужд!
С апреля по сентябрь были в дороге; всего много было, великие страхи, громы, молнии, ветры чрезвычайные. С таким трудом довезли нас в маленький городок, который сидит на острове; кругом вода; жители в нём самый подлый народ, едят рыбу сырую, ездят на собаках, носят оленьи кожи: как с него сдерут, не разрезавши брюха, так и наденут, передние ноги вместо рукавов. Избы кедровые, оконца ледяные вместо стекла. Зимы 10 месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, никаких фруктов, даже капусты. Леса непроходимые да болота; хлеб привозят водою за тысячу верст. До такого местечка доехали, что ни пить, ни носить нечего: ничего не продают, даже калача. Тогда я плакала, для чего меня реки не утопили. Мне казалось, не можно жить в таком дурном месте.
Не можно всего страдания моего описать и бед, сколько я их перенесла! Что всего тошнее было, для кого пропала и все эти напасти несла, и что всего в свете милее было, тем я не утешалась, а радость моя была с горечью смешана всегда: был болен от несносных бед; источники его слёз не пересыхали, жалость его сердце съедала, видев меня в таком жалком состоянии. Молитва его перед Богом была неусыпная, пост и воздержание нелицемерное; милостыня всегдашняя: не уходил от него просящий никогда тощ; правило имел монашеское, беспрестанно в церкви, все посты приобщался Святых Таинств и всю свою печаль возложил на Бога. Злобы ни на кого не имел и никому зла не помнил и всю свою бедственную жизнь препроводил христиански и в заповедях Божьих, и ничего на свете не просил у Бога, как только царствия небесного, в чём и не сомневался.
Я не постыжусь описать его добродетели, потому что я не лгу. Не дай Боже что написать неправедно. Я сама себя тем утешаю, когда вспомню все его благородные поступки, и счастливой себя считаю, что я его ради себя потеряла, без принуждения, из своей доброй воли. Я всё в нём имела: и милостивого мужа и отца, и учителя, и старателя о спасении моём; он меня учил Богу молиться, учил меня к бедным милостивою быть, принуждал милостыню давать, всегда книги читал Святого писания, чтобы я знала Слово Божие, всегда твердил о незлобии, чтобы никому зла не помнила. Он фундамент всему моему благополучию теперешнему; то есть моё благополучие, что я во всём согласуюсь с волею Божьею и все текущие беды несу с благодарением. Он положил мне в сердце за всё благодарить Бога. Он рожден был в натуре ко всякой добродетели склонным, хотя в роскоши и жил, как человек, только никому зла не сделал и никого ни в чём не обидел, разве что нечаянно.
Получил я сию книгу из Киева, по кончине несчастной матери моей, в 1778 году, января 17 дня, в день её рождения.
(Эта заметка написана сыном княгини Наталии Борисовны, князем Михаилом Ивановичем Долгоруковым, как удостоверяет запись на той же странице, сделанная внуком князя Михаила Ивановича; почерком того же внука написаны: а) заглавный лист т б) биографические заметки.
Чтобы текст «Своеручных записок» был понятнее, считаю нужным помянуть её отца, первого графа Российского.
Из академической статьи:
Граф (с 1706 года) Борис Петрович Шереметев (25 апреля 1652 года, Москва, Русское царство – 17 февраля 1719 года, там же) – русский полководец времени Северной войны, дипломат, один из первых русских генерал-фельдмаршалов (1701 год). В 1706 году первым возведён в графское Российского царства достоинство.
Родился в старинной боярской семье Шереметевых. Старший сын боярина Петра Васильевича Шереметева (умер в 1690 году) и его жены Анни Петровны Волынской (умерла в 1684 году).
В 13 лет был назначен в комнатные стольники. В 1681 году в должности воеводы и тамбовского наместника командовал войсками против татар. В 1682 году получил боярский титул. Проявил себя на военном и дипломатическом поприщах. В 1686 году участвовал в заключении «Вечного мира» в Москве с Речью Посполитой, а затем был поставлен во главе посольства, отправленного в Варшаву для ратификации заключённого мира.
Вернувшись в Россию, Шереметев получил командование над войсками в Белгороде и Севске, отвечавшими за охрану от крымских набегов. Служба вдали от Москвы позволила Шереметеву не делать выбора во время борьбы между царевной Софьей и Петром I. В 1695 году участвовал в первом Азовском походе Петра I, но на отдаленном от Азова театре военных действий – командовал армией, действовавшей на Днепре против крымских татар.
В 1697 – 1699 годах Шереметев совершил путешествие по Западной Европе (был в Польше, Австрии, Италии, на острове Мальта, где его сопровождал Иоанн Пашковский), выполняя дипломатические поручения Петра I, стал кавалером Мальтийского ордена, после чего вернулся в Россию в немецком платье, вызвав тем восторженный приём царя.
С началом Северной войны со Швецией командовал поместной конницей и участвовал в несчастном для русских Нарвском сражении (19 ноября 1700 года). Несмотря на поражение, Петр прислал Шереметеву ободряющее письмо, произвел его в генерал-аншефы; ему подчинили «генеральства» (дивизии) взятых в плен генералов А. А. Вейде и А. М. Головина.
В кампании 1701 года основные силы шведской армии с Карлом XII ушли в Польшу, поэтому Пётр I имел возможность привести войска в порядок и пополнить их. В первой половине 1701 года Шереметев вел «малую войну»; в августе 1701 года в Россию из-под Риги вернулся вспомогательный корпус генерала А. И. Репнина. 2 октября 1701 года Петр I, посетив Псков, отдал приказ о «генеральном походе». 23 декабря 1701 года Шереметев во главе армии (по-старому называлась Большой полк) вступил в Шведскую Ливонию (Лифляндию), в сражении у Эрестфера близ Дерпта 29 декабря 1701 года (9 января 1702) нанес поражение шведам генерала Шлиппенбаха, от которого они «долго необразумятца и не оправятца». За первую победу в войне получил чин генерал-фельдмаршала и орден Святого Андрея Первозванного (30 декабря по старому стилю).
В июле 1702 года предпринял новый поход в Лифляндию, 19/30 июля нанес новое поражение Шлиппенбаху при Гумельсгофе, в августе 1702 года занял Мариенбург, где, кроме всего прочего, захватил Марту Скавронскую, которая вскоре оказалась в услужении у Меншикова, затем у царя Петра I и впоследствии стала императрицей под именем Екатерины I.
Осенью 1702 года возглавил осадную армию при взятии Нотебурга. 1 мая 1703 года в присутствии царя после недельной осады принудил к капитуляции Ниеншанц и завершил покорение Ингерманландии.
Летом 1704 года русская армия была разделена: большая часть войск была вверена принятому на русскую службу в чине генерал-фельдмаршал-лейтенанта Г. Б. Огильви, который осадил Нарву; Шереметев во главе отдельного корпуса (по-прежнему называемого Большой полк) осадил Дерпт. Когда осада Дерпта затянулась, под стены крепости прибыл царь Пётр, сделал выговор фельдмаршалу и сам возглавил новый штурм (13/24 июля 1704 года), завершившийся успехом.
В феврале 1705 года Пётр I направил А. Д. Меншикова для инспекции действующей армии с сообщением, что отныне вся конница вверяется Б. П. Шереметеву, а пехота – Г. Б. Огильви (известие о том, что большая часть армии отныне выведена из его подчинения, «зело опечалила Шереметева»). Вскоре «лёгкий корпус» под началом Б. П. Шереметева потерпел поражение в Курляндии от шведского генерала Левенгаупа при Гемауэртгофе, причём сам Шереметев был ранен.
В конце 1705 года направлен Петром I в Астрахань для подавления мятежа. Высочайшим указом от 1706 года генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев был первым в России возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российского царства достоинство; его сын Михаил Борисович Шереметев получил чин полковника Астраханского пехотного полка.
Летом 1706 года произошло очередное изменение в русском командовании: теперь возвращённый в действующую армию генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев возглавил пехоту, а генерал от кавалерии князь А. Д. Меншиков – кавалерию.
В кампании 1708 года не оказал помощи А. И. Репнину в несчастном сражении при Головчине, что стало одной из причин поражения. В Полтавской битве (1709 год) формально возглавлял русскую армию (именно ему Пётр I, сделавший всё для обеспечения победы, на поле битвы вверил русскую армию), был щедро награждён поместьями. В 1709 – 1710 годах командовал армией при осаде Риги.
В 1711 году командовал русской армией (в присутствии царя) в неудачном для русской армии Прутском, вынужден был подписать невыгодный мир, в залог которого оставил своего сына Михаила Шереметева (умер по возвращению на родину в 1714 году).
В 1712 году Шереметев заявил Петру I о своём желании постричься в монахи Киево-Печерской лавры, но царь заменил монастырь женитьбой на молодой красавице А. П. Салтыковой.
В 1715 году Шереметев поставлен командующим русским экспедиционным корпусом в Померании и Мекленбурге для совместных действий с прусским королем против шведов – дело для Шереметева ничем не примечательное. В 1717 году он возвратился в Москву и после тяжёлой болезни скончался.
В завещании Шереметев просил похоронить его в Киево-Печерской лавре, но Пётр I, решив создать пантеон в Санкт-Петербурге, приказал похоронить Шереметева в Александро-Невской лавре, заставив служить государству даже мёртвого сподвижника.
Борис Петрович был дважды женат и имел детей:
Жена с 1669 года Евдокия Алексеевна Чирикова (ум. 1703 год), единственная дочь стольника Алексея Пантелеевича Чирикова и его жены Федосьи Павловны.
Софья Борисовна (1671—1694 годы), была замужем за боярином С. Н. Урусовым.
Михаил Борисович (1672—1714 годы), генерал-майор.
Анна Борисовна (1673—1726 годы), была замужем за И. Ф. Головиным.
Жена с 13 апреля 1713 года Анна Петровна Нарышкина, урождённая Салтыкова (1686—1728 годы), вдова боярина Л. К. Нарышкина; дочь Петра Петровича Салтыкова и княжны Марфы Ивановны Прозоровской, дочери боярина И. С. Прозоровского, убитого при обороне Астрахани. На свадьбе Шереметева император Пётр I лично был распорядителем, гостями были вся царская чета, а празднество продолжалось два дня с большой пышностью.
Пётр Борисович (1713—1788 годы).
Наталья Борисовна (1714—1771 годы), одна из первых русских писательниц, замужем за И. А. Долгоруковым.
Сергей Борисович (1715—1768 годы), гвардии ротмистр; был женат на дочери Я. И. Лобанова-Ростовского, Фитине Яковлевне Лобановой-Ростовской (1714—1777 годы).
Вера Борисовна (1716—1789 годы), была замужем за тайным советником Фёдором Авраамовичем Лопухиным (1697—1757 годы)
Екатерина Борисовна (1717—1799 годы), была замужем за Алексеем Васильевичем Урусовым (1722—1796 годы).