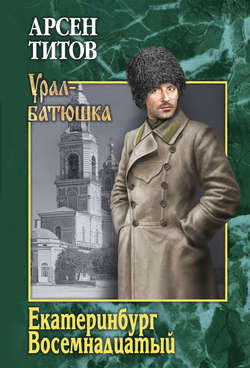Читать книгу Екатеринбург Восемнадцатый (сборник) - Арсен Титов - Страница 3
Екатеринбург Восемнадцатый
2
ОглавлениеПетр Степанович Михайлов, а вернее, весь славный Девятый сибирский казачий полк счел пробиваться домой, в свои сибирские степи, через Туркестан. Как и вся Россия, Туркестанский край не представлял собой тихого угла. Но он сибирцам был едва не домом родным по их службе в этом краю. Столица его город Ташкент много лет был штаб-квартирой Первого сибирского Ермака Тимофеевича полка, и вообще все три первоочередные сибирские полка несли службу в этом краю, собственно же, отвоевав его для империи и даже продемонстрировав нашей доброй старой подруге Англии возможность нашего появления в пределах Индии. Не надо забывать, что наша добрая старая подруга всегда всецело была на стороне любого, кто что-либо затевал против нас, и в те годы жаждала как раз со стороны Индии прихватить и всю Центральную Азию, то есть Туркестан.
А тихого угла он собой не представлял по причине прошлогоднего кровавого мятежа или той же революции местного туземного населения против всего русского. За своей толстой кошмой, отделявшей нас в Персии от всего происходящего в России, мы об этой стороне жизни у нас дома не знали. Зачинщики мятежа, то есть революционные вожаки, провозгласили священную войну всех мусульман против иноверцев, разумея под иноверцами только русское православное население. Вся их священная война – это обычно резня мирных безоружных жителей, но ни в коем случае не открытые боевые действия армии против армии. Исключением вышел разве что период войны Шамиля с нами. И здесь, в Туркестане, тоже вся священная война вылилась лишь в дикие насилия и надругательства над матерями, женами, сестрами, детьми и стариками русских мужиков и казаков, ушедших на фронт. Якобы причиной мятежа стал слух о призыве на военную службу и на обеспечение тыловых работ армии местного туземного населения с насильственным обращением его в православие. Известно, что оно, туземное население, во все время российского подданства от всяких обязательств по отношению к империи, кроме налога, было освобождено. Причиной якобы стало и кризисное положение с продовольствием в крае, хотя таковое оно складывалось едва не по всей империи. Возможно, это действительно стало причиной. Но при чем же мирное население? Есть в окружающих империю народах что-то темное, что-то из того ряда, который сотник Томлин определил словами о признании ими только грубой физической силы. Кроме того, я просто уверен, что не обошлось без определенной работы агентов нашей доброй подруги и, само собой, агентов из числа военнопленных немцев и австрийцев. Одним словом, туземцы возмутились. Возмущение быстро переросло в вооруженный мятеж против русских. Власти, как это бывает в тылу, тотчас показали полную свою несостоятельность. Право, или я одичал за войну, или во мне таились до поры врожденные, сродни революционным, наклонности, но я бы за эту несостоятельность ответственных предал военно-полевому суду. Но им, как всегда, сошло. Их отозвали. В край ввели воинский контингент и направили очень уважаемого туземцами бывшего некогда правителем этого края генерала Куропаткина Алексея Николаевича, тезку моего батюшки. Он взялся ново-старых своих подданных увещевать. И того ему было успеха, что военный контингент не стал с мятежниками церемониться, а дал им тою мерой, какой отличились они. Сибирцы говорили, что особенно решителен в действиях был отозванный с фронта командир Второго Сибирского казачьего полка полковник Иванов. Край был замирен. Однако пособники революции из государственной Думы, чтобы скомпрометировать правительство и государя-императора, обвинили полковника Иванова в жестокости, совсем не обращая внимания на то, что его жестокость была лишь ответом, и без нее никакой Алексей Николаевич Куропаткин со всем своим авторитетом ничего бы не сделал.
А нынешним летом, говорят, в краю случилась засуха, и на край обрушился голод. И опять никто ничего не хотел делать во исправление положения. Все стали искать только корысть и устремились на этих обстоятельствах нажиться. Надо было мне самому оказаться в тылу нашего корпуса, чтобы убедиться, как все расстроено, как все в упадке, как все проникнуто одним сплошным безобразием. А ведь тыл корпуса – это ближний тыл. И я еще весной позапрошлого пятнадцатого года отмечал эту особенность тыла быть тем безобразней, чем он дальше находился от фронта. И здесь не нашлось ни силы, ни желания, ни совести обеспечить край даже теми малыми крохами продовольствия, которые были закуплены в Оренбургской области и в Кавказском крае. Его просто в Туркестан не поставили, или разворовав на месте, или разворовав по дороге. Голод нынешнего лета в Туркестане достиг такого размера, что, говорят, фунт хлеба в Ташкенте в цене доходил до ста рублей. Хотя, может быть, это опять был только слух, только та же священная война, потому что сто рублей за фунт – это просто невозможно, и взявшийся установить такую цену продавец был бы на месте растерзан.
Но голод все-таки воцарился. А голод – это отец. Мятеж и бунт – его сыновья. А внучка – уже революция. Погромы, грабежи, так называемые реквизиции, то есть те же погромы и грабежи, только уже от имени революции, стали обыденностью. Властей в крае было две – туземная для туземцев, и русская для русских. Революция туземную власть оставила, а русскую видоизменила, посадив вместо того же Алексея Николаевича Куропаткина, как царского сатрапа, каких-то своих Вичкиных, Бричкиных, Опричкиных, назвав их временными. Такое положение не удовлетворило корысти еще более революционных, чем у этой временной власти, устремлений, и появилась третья власть со своими Вичкиными, Бричкиными, Опричкиными. Эти последние, совершенно уголовная сволочь, назвавшаяся большевиками, стали задавать тон. К ним не замедлили присоединиться так называемые интернационалисты, то есть германские и австрийские военнопленные, которых в крае было до сорока тысяч. Видя эту силу, к ним же присоединились два Сибирских запасных стрелковых полка. Некоторое время все три власти как-то более-менее между собой ладили. Они бузили, громили обывателя, арестовывали друг друга, сменяли своих верховодов, но все это обходилось без крови, по крайней мере, без большой крови.
Большую кровь большевики пустили в конце октября после захвата власти большевиками в Петрограде и, говорят, пустили ее не без содействия второй, временной, власти. В то время как большевики в союзе с немецкими и австрийскими пленными, которых при таких обстоятельствах назвать пленными уже не выходило, не останавливались ни перед чем, краевой правитель комиссар Коровиченко, какой-то присяжный поверенный до войны, ничего им не противопоставлял, наверно, полагая, что по старинке усовестит их какой-нибудь замысловатой речью. До речей дело не дошло. Власть взял поручик одного из сибирских запасных полков некто Перфильев, в свое время исключенный из полка судом чести за воровство. Его подручными стали провокатор Одесской охранки Цвиллинг и некто бывший секретарь Ташкентского сиротского суда, укравший у сирот крупную сумму. Они образовали совет народных комиссаров и тотчас отправили Коровиченко и всех его приспешников в тюрьму.
Подобная картина для России была повсеместной. Потому Девятый сибирский казачий полк рассчитал правильно – пробиться на Оренбург через Туркестан, гарантировав себя сохраненными в полку дисциплиной и оружием. Полк сразу был объявлен контрреволюционным. О нем сразу же было сообщено по всей железной дороге с требованием разоружить. Но что вышло у революции, так только пропускать полк не всем составом, а посотенно, то есть эшелон с каждой сотней выпускать со станции самое малое через сутки после ухода предыдущей сотни. И полк тащился таким образом, что первая сотня полка подходила к Самарканду, а шестая в это время шарашилась по запасным путям в Асхабаде.
В Самарканде нас загнали в специально для того оборудованный тупик с поставленными на крышах пакгаузов с двух сторон пулеметами. Некто местная сволочь комиссар, обвешанный наганами, бомбами и патронными лентами, в сопровождении таких же своих сволочей вышел к эшелону и потребовал на переговоры революционный комитет полка. Всему наученные самой же революцией, сибирцы заранее выбрали этот свой революционный комитет из людей доверенных и по характеру таких, которые могли про себя сказать словами присказки моей нянюшки: «Мамонька! Пожалей меня бедную! Я сегодня только семерых собак перелаяла!» Это были казаки Усачев и Красноперов. Фамилию третьего казака-комитетчика я забыл.
На этот раз перелаять самаркандских сволочей не вышло. Едва наши ревкомовцы явились к местному ревкому в здание вокзала, как были арестованы и объявлены заложниками, которые будут расстреляны, если эшелон в течение часа не сдаст оружие и не выдаст офицеров. Для убедительности сволочь комиссар распорядился дать длинную пулеметную очередь поверх вагонов. Это должно было означать последующую стрельбу по вагонам. Сибирцам ничего не оставалось делать, как согласиться на сдачу оружия. Но офицеров выдавать они не стали, переодели их в шинели рядовых казаков, а самого командира полка Петра Степановича Михайлова вообще объявили тифозным и хладнокровно на виду у комиссарской сволочи перенесли в лазаретный вагон.
– Нету у нас никаких офицеров! Они на Баку наши полковые гроши пропивают! – сказали сибирцы.
К моему удивлению, отличным артистом оказался сотник Томлин. Он придумал поместить Петра Степановича в лазаретный вагон, изобразил из себя фельдшера и руководил переноской, громко ругаясь, что тифозная бацилла носится, где хочет, что стенки лазаретного вагона ей не Кашгарская граница, и она за секунду может перескочить на станцию. С этими словами он пошел к комиссарской своре с просьбой огонька на цигарку. Ни подойти, ни огонька ему свора не дала, а замахала оружием и закричала поворачивать.
– Казачья сволочь! – сказала свора сотнику Томлину.
Вообще все в России стали вдруг сволочью. Они стали сволочью называть нас. Мы так стали называть их. Я не знаю, почему они не разнообразили свою речь и не искали какие-нибудь другие эпитеты. А мы иных не знали. Подлее этого слова мы не знали и не находили равным ему, если даже вдруг слышали. Всякое слово против этого нам казалось легковесным и даже смягчающим их подлость.
Догадался о нашем спектакле сволочь комиссар или не догадался, сказать трудно. Вернее, так он убоялся усугубить обстановку и удовлетворился сдачей стрелкового оружия. Шашки казаки сдать отказались, сказав, что это личное имущество, и их сдача будет обыкновенным грабежом. Кое-кто из особо дошлых сумели сохранить и винтовки.
Я был в лазаретном вагоне и всего, о чем говорю, не наблюдал. А сказал мне об этом Петр Михайлович, потом прибавил сотник Томлин. На мой характер, так я бы захватил станцию вместе с их революционным комитетом, этих сволочей комиссаров взял бы заложниками и покатил бы дальше. Уверен, пулеметы промолчали бы, как говорится, в тряпочку. А то бы следовало прихватить и их. Не мне казаков судить, но в казаках что-то сломилось. Вероятно, жажда попасть домой лишила их воли.
Вот так все вышло.
В виду таких дел, я почел за благо изыскать в себе моральные силы и поднялся с постели, то есть с голого топчана с моим сидором в изголовье. С померкшим в глазах светом и на отказывающихся ногах я по стенке добрался до свежего воздуха. Я остановился перед ним, почуяв резкую грань свежей его пустоты против воздуха вагонного. Я даже испугался упасть в него, как в некую бездну. Я осторожными рывками подергал свежесть в себя, жутко закашлял от щекотки. С наступившими слезами я прозрел, увидел, что воздух оранжев, праздничен, и отменно черными крючками в этой праздничной оранжевости торчал комиссар со своими приспешниками.
– Еще одна казачья сволочь! – услышал я о себе.
И тотчас я услышал голос сотника Томлина.
– Тебя куда, задрыку, черт понес! Вша тифозного между товарищами поделить захотел! А ну обратно сдай! – закричал на меня сотник Томлин, будто на рядового казака. Я, как в гущу выгребной ямы, отодвинулся в вагон. – Ты что, Лексеич! Да ты думай маленько! Да твое барье личико за семь верст без стереотрубы любая бляха разглядит! – гусем зашипел он в вагоне.
Оставаться в лазаретном вагоне я больше не захотел. Эшелон тронулся. И сотник Томлин проводил меня к себе в вагон с полковым имуществом, где он делил место с офицерами штаба полка и первой сотни. Они, несуразно и не в размер одетые в шинели нижних чинов угрюмо молчали. Следом за нами в вагон вошли трое – новый комиссар и два охранника.
– Ладно, ладно, мазурики! – поднял комиссар руку, то ли таким образом здороваясь, то ли желая усмирить в его представлении возникшую среди нас с его появлением тревогу. – Я, то есть мы, ревком, знаем, что вы все тут офицеры! Потому езжайте смело. А я и вот они, мои товарищи, для пущей безопасности, проводим вас до Ташкента!
Они сели возле дверей, в сознании своей значимости пристально оглядели нас.
– Да нет! Все офицеры! – в удовлетворении отметил комиссар, закрутил цигарку и сказал: – Все офицеры. И я сейчас вам сделаю революционную пропаганду!
– Ты бы, дядя, оставил нас в покое! Нам ведь до наших сибирских станиц шлепать ой-ё-ёй сколько! Не до тебя нам, дядя! – сказал наш ревком Усачев.
– Сибирские казачки, значит! Не вы ли гуляли тут в прошлом году? – в прежнем удовлетворении спросил комиссар.
– Мы-то погуляли, да не тут с вами, а под турецкими шрапнелями да в казачьих лавах. Тут-то вы погуляли! – сказал второй наш ревком Красноперов.
Комиссар игриво ткнул в бок соседа-охранника, надо полагать, из военнопленных.
– А, Август, каково! Все офицеры! – весело сказал он.
Сосед-охранник, вероятно, из военнопленных, промолчал. Я подумал про комиссара: «Сейчас преобразится!» – И точно. Комиссар посуровел, выпрямился в спине, еще раз прошелся недобрым взглядом по нам, чему-то коротко усмехнулся, как бы соглашаясь с самим собой, хлопнул ладонью по колену.
– А вот если так, господа офицеры! – с вызовом сказал он. И стал дальше говорить, свою, как он выразился, революционную пропаганду. – Что же вы думаете, что восстали только местные киргизы и восстали только по той самой причине, какую сказали вам? – спросил он и сам, как следует оратору, ответил: – Нет, господа офицеры! Я комиссар Брадис. Я был участником этих событий. Я давал показания прокурору. Я прямо сказал, что их потуги свалить все на киргизов – брехня и трусость. Восстание было спровоцировано самими властями, царскими сатрапами, для уничтожения человеческого туземного материала и тем очистить земли для новых русских колонизаций. Русский крестьянин пошел в революцию. И чтобы заткнуть ему глотку, оттянуть его от революции путем соблазна новых земель – вот для чего было задумано. Этот приемчик мы, большевики, знаем из истории колонизаторской политики империалистических держав, военным лицом которых являетесь вы! – комиссар Брадис усмехнулся. – Вы говорите, что вы сибиряки! А вы тут пятьдесят лет угнетаете бесправное туземное население. И мы знаем, как это систематическое угнетение в известный момент превращается в политику физического уничтожения трудящихся угнетенных народов!
– Ты, дядя, человеческим языком нам скажи, что ты задумал! – не выдержал ревком Усачев.
– Что я задумал? – спросил комиссар Брадис и вдруг пристально посмотрел на меня в полном соответствии со словами сотника Томлина о моем, за семь верст выделявшемся – только непонятно, чем – «барьем личике». – Что я задумал? – повторил комиссар Брадис. – Именно я ничего не задумал. Мне вас до Ташкента проводить, чтобы чего по дороге не было. А вот наша революция ставит вопрос. И этот вопрос заслуживает вашего внимания, потому что он ставится против вас. Довольно. Поколонизаторствовали. Теперь угнетенные народы подковываются высоким революционным сознанием против вас, русских, во всемирном масштабе!
– А ты, дядя, не хлебнул ли для храбрости? Что-то ты не по тракту, а какими-то обочинками понесся! – опять сказал ревком Усачев.
– Хе-хе! Обочинками-то вы поскачите! Под нашим революционным взором и нашими беспощадными дулами! – сказал комиссар Брадис.
Революционная пропаганда продолжалась бы, думаю, бесконечно, кабы не выводка лошадей на одной из больших остановок. Лошадей в сотне была половина состава. Казаки на службу по закону должны отправляться со своим конем. И если конь будет убит или падет, казак получает казенного коня, которого по окончании службы обязан сдать казне. В условиях революционного порядка коней сдавать было не только бессмысленно, но и невозможно. Потому их продали еще в Энзели за самый пшик в цене. Раз в два дня на длительных остановках эшелона лошадей выводили размять и почистить. Это-то вот мероприятие заставило комиссара Брадиса сделать в своей пропаганде перерыв. За время стоянки в вагон вернули командира полка Петра Степановича. В продолжение игры с болезнью, его уложили в самый угол, а рядом уложили меня, от слабости сил занемогшего сидеть.
– Они что, тифаковые? – в тревоге спросил комиссар Брадис.
– А шайтан их знает. Может, тиф, а может, сибирка! – сказал ревком Усачев.
– Выясню! – коротко пригрозил комиссар Брадис.
– Ты лучше выясни, по какого за наши денежки коням поставляют недробленый ячмень! – зло бросил ревком Усачев.
– Можем вообще ничего не давать! – опять коротко бросил комиссар Брадис.
– Да ты, морда, не знаешь, что ли, что от такого корма у коней колики! – едва не хватил кулаком комиссара Брадиса ревком Усачев.
Комиссар Брадис полез за наганом, но увидев, как плотно на него двинулся весь вагон, сдал к двери. Кто-то из казаков закрыл ему дорогу и схватил сзади за руки. Миг, и комиссара бы не стало.
– Казаки! Смирно! Отставить! – откинул шинель Петр Степанович.
Сколько ни испугался комиссар Брадис, но революционный характер выдержал, ехал с нами до Ташкента, только, кажется, в видах самообороны от тифа и сибирки не открывал рот.
– Вы, кажется, выдали себя! В Ташкенте этот мазурик выдаст нас своему ревкому! – сказал я Петру Степановичу.
– Да не дадут казаки! У нас же офицеры, в отличие от других казачьих войск, остаются в строю, как говорится, доколе остаются в силах. Они не помещики и не буржуи! Они всегда с казаком наравне во всех тяготах службы! – сказал Петр Степанович.
Но, как я и предполагал, в Ташкенте комиссар Брадис действительно привел в вагон местный ревком.
– Вот этот! – указал он на меня.
Ревком меня взял со всех сторон наганами.
– Я его сразу узнал! – как-то заученно, видимо, не в первый раз стал говорить ревкому комиссар Брадис. – Я его помню еще по Вильне. Самая исключительная для революции сволочь, офицер после Виленского кавалерийского!
И никакие протесты казаков, никакие мои объяснения, что комиссар Брадис глубоко ошибается, не возымели действия.
– Если и ошибается, то все равно не ошибается! Классовое чутье не подводит! – сказал местный ревком.
– Что, и Изу Салмонович не знаешь? Отрекаешься? А не из-за тебя ли она в православие перешла? Что? И этого не помнишь? А там меня едва не по морде таскал, пархатым называл! И дружок твой Степанов где? В папашкином Веркяйском именьице укрылся? Достанем! Я специально в Петрограде мандат в Вильну выхлопочу. Я вас всех достану! – в бешенстве стал кричать комиссар Брадис.
Меня и брата Сашу опять спутали. Не были мы особо похожи друг на друга. Но что-то типически породное заставляло людей принимать одного из нас за другого. Брат Саша, а не я закончил Виленское кавалерийское. У брата Саши, а не у меня был друг Степанов. И вся история с неизвестной мне Изой произошла у брата Саши, а не у меня. Эту историю, совсем кратко и неясно, я знал со слов старого казака-бутаковца Самойлы Васильевича, пересказанную мне в день, вернее, в ночь гибели Саши, в ночь перед боем на Олту зимы четырнадцатого года. Из истории выходило, что брат Саша любил эту неизвестную мне Изу – и только. Ни о каком Брадисе – кто он там был, и как мог Саша с ним столкнуться – я до сей минуты не знал. Ни Саши, ни этой Изы уже не было в живых.
Еще в Энзели меня хотели было записать в рядовые казаки. Но сотник Томлин по случаю у меня, как он выразился, барьей рожи придумал записать учителем гимназии, произведенным в прапорщики. И если бы я был в памяти, он бы еще присоветовал что-нибудь навроде того, чтобы я прикинулся немного тронутым от контузии. «Дурака не тронут. Если, конечно, сами они не дураки, эти нынешние. А то дурак дурака еще хуже понимает, чем дурака – умный» – примерно так бы сказал он. И едва ли не весь вагон увещевал комиссара Брадиса, что я учитель, что отродясь никакой Вильны не видывал, разве только в книгах о белом свете Элизе Реклю. Все было напрасно.
Все было напрасно. Ревком поверил Брадису. Я оказался в тюрьме. Правда, сидеть мне там пришлось недолго. Разбирая мои вещи с целью упрятать наиболее ценные, то есть мои ордена и погоны, сотник Томлин нашел справку, выданную мне товарищем председателя ревкома нашего корпуса Стаховским. По этой справке, я оказал корпусному ревкому определенные революционные услуги. Помог и солдатский Георгий, врученный мне по увольнении из корпуса. Но самое главное, что поспособствовало, так это спешное отбытие куда-то из Ташкента комиссара Брадиса. О нем в ревкоме отозвались очень недобро.
– Этот еще и не так мог бы с тобой поступить, товарищ! Он при режиме был в присяжных в Вильне, а потом приехал сюда. Тип еще тот, буржуй без примеса. При Временном кинулся в их комиссаришки, даже вызвался сопровождать бывшего наместника края генерала Куропаткина в Питер, когда его отсюда сместили. Там пристроился. А теперь себя большевиком числит и требует за заслуги должность! Мстительный и верткий. Сам бы кончать тебя не стал. А велел бы кому-нибудь тебя шлепнуть! Бывало уже! Руки не хочет запачкать! – сказали мне в ревкоме при выписке проездного документа до Оренбурга.
Все это могло остаться обыкновенным эпизодом, если бы в тюрьме я не оказался свидетелем расправы новой власти над арестованными представителями старой власти. Все пережитое мной до сего момента оказывалось обыкновенным свежим ветерком против всесокрушающей бури. Я на войне не чувствовал столькой близости смерти – смерти без славы, без пользы, а только по прихоти гнусного, как выразился комиссар Брадис, человеческого материала. Новая большевистская власть поставила себя так, что в день моего заключения в тюрьму туземная власть объявила в Туркестане автономию, но автономию не от России, как о том волхвовал все тот же комиссар Брадис, а автономию от самих большевиков. Как они видели это, я за них сказать не могу. Вернее всего они не видели никак, а были соблазнены новым термином, потому что само по себе провозглашение независимости территории от части населения этой территории – это обыкновенные абсурд и несуразность. И большевики, конечно, это поняли, и, конечно, этим воспользовались. Но они воспользовались этим несуразным провозглашением не для расправы над туземной властью, что было бы преступной, но все-таки логикой. Они воспользовались сим обстоятельством, чтобы расправиться с властью старой. Этой же ночью в тюрьму прибыли некие большевистские представители, изобразили некое подобие суда и приговорили к смерти нескольких заключенных, среди которых, как мне сказали, были наказной атаман Семиреченского казачьего войска генерал Кияшко, интендант Туркестанского военного округа генерал Смирнитский и еще несколько несчастных. Сразу по вынесении приговора их стали истязать – совершенно без какой-либо вины или мести, а только из большевистского классового садизма. Чтобы заглушить крики несчастных, кто-то догадался заставить охранную команду напоить и в пьяном виде исполнять революционный гимн французской революции, взятый гимном, кажется, всех наших революционеров. Никакой гимн, никакой пьяный рев, конечно, не могли заглушить криков несчастных, и они неслись по всей тюрьме. Я ждал, что такой же будет и моя участь. При истязании, говорят, присутствовал упоминаемый мной бывший поручик-вор и нынешний глава новой власти Перфильев. Останки еще живых несчастных жертв, превращенных в месиво из дробленных костей и рваных мышц, он приказал бросить голодным собакам.
– Кто тут еще из контры есть? – услышал я после всего чей-то начальнический вопрос, возможно, вопрос самого Перфильева. Ему что-то было в ответ сказано, может быть, и про меня. Но тот же начальнический голос сказал: – Ладно, потом! Теперь поспать надо!
Что еще сказать?
Ничего из происходящего не поддавалось никакому объяснению. Везде в Туркестане говорилось о голоде. Но мы с сотником Томлиным ехали в Оренбург эшелоном, полным продовольствия. Охрана эшелона утверждала, что обратно они повезут партию русских девушек для домов свиданий. Их якобы кто-то в Туркестане выменял на туркестанское продовольствие.
Оренбург при всей начавшейся войне между казаками и большевиками нам показался оазисом цивилизации.
Казачью власть представлял казачий атаман полковник Дутов, одновременно состоявший на каких-то высоких полномочных должностях у Временного правительства. Большевиков он не признал и их разгула не допустил, объявив город на военном положении. Противоборствовать ему большевики направили из Петрограда своего ставленника по фамилии Цвиллинг. Но тот ли это был Цвиллинг, который орудовал в Туркестане, я не знаю. Думаю, не так уж много на белом свете Цвиллингов, чтобы их было и там, и здесь. А впрочем, сам черт не разберет их, Цвиллингов, Бернштейнов, Блюмкиных, Вичкиных, Бричкиных, Опричкиных. К нашему приезду западней Оренбурга и со стороны Челябинска уже шли полномасштабные боевые действия. На Оренбург кинулись, кажется, полстраны, включая Петроград и наш Екатеринбург. Среди самих оренбуржцев не оказалось должного единства. Фронтовики устали воевать. К тому же им наобещали сладкую жизнь, если они не выступят против большевиков. К Рождеству Господню большевики имели успех взятием столицы третьего отдела Оренбургского войска города Троицка, а через три недели они взяли и сам Оренбург. Их власть, таким образом, установилась на всей нашей дороге домой. И на этой дороге снова помогала нам с сотником Томлиным моя справка, за которую от сотника Томлина я получил любезное прозвище двурушника.
– Я тут его спасал, а он, оказывается, при справочке был! – как бы в невозможности постичь моего коварства, развел он руками.