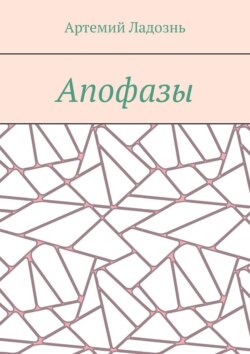Читать книгу Апофазы - Артемий Ладознь - Страница 3
Апофазы
Освящаемое, удостаиваемое, охуждаемое
ОглавлениеТребовалось за тридевять (земель ли, лет или еще каких единиц), чтобы достичь чего-то значительного, – заплатив столькажды примерно, дважды по тринадцать-четырнадцать (умолчим пока о мере). Чего же – достичь? Это предстояло еще выяснить, пройдя путь со всеми его апофазами, разменами. Как и то, чем расплатиться: несомненно, главным.
Среди прочего – основанием, твердым и несколько поверхностным. Пожалуй, основанием самых основ этой самой девятичности, как и ее скорбной изнанки (с базисом не то единожды тринадцать, не то дважды по семь).
Как же, и когда, потерял ее? А как – нашел прежде? Может быть, изначально встреча была ошибкой? Может статься, прельстилась его моложавой миловидностью (которая также едва ли выстоит на столь длительном горизонте поисков и разлук), а прежде – всеми этими, давно въевшимися в сознание и бессознательное масс с подачи популяризаторов от магизма-для-профанов: Вселенная, дескать, внемлет тебе; только того и ждет, как бы удовлетворить твои похоти, а не одни лишь сокровенные стремления. И в каждом-де сидят, как и должно тому быть, обе природы – инь и ян – и это, мол, хорошо, и дефицит одного тянется к избытку другого – обоих – как писывал не то Вайнингер, не то Виттгенштейн (это почему-то никак не коренилось в его сознании, улетучиваясь подобно пару или перекати-поле), а прежде – то ли Платон, то ли прогремевший с именем, толкуемым чуть ли не в смысле «Небесного» (а то – «зияющего»).
И она, должно быть, пропиталась этим и прочими поветриями ветрености: ведь и в его сменщике искала того же – ну, очевидно того же! – с точностью до мелочей, так что сложносоставное событие слишком редко, чтоб быть случайным повтором подобного или случайностью в себе. Ну, а он, повторив эту любовную драму в едва ли меньшей совокупности деталей, пусть также исподволь и совершенно не ища того, чего наперед знать и не мог, – он-то чем движим был?
Знал, или в раздражении отстаивал про себя, лишь одно, причем паче сильных активов и вопреки своекорыстным целям: а эти, мол, «полуизвращенцы духом», не пытались ли разглядеть в каждом (банальненько? уж не взыщите!) нечто более простое и полное – не оба пола, но общую, человеческую природу? Ту самую незамутненную, что есть или должна еще теплиться (где за мужеским эго и женской ревностью может крыться и достоинство, если только речь не о выхолощено-хищнических эксцессах)? А за той – и кроющуюся высшую, божественную, этакую гору и твердыню, твердь и недосягаемо-необозримую даль. И как знать, не соответствует ли общечеловеческое в человеках простому-единому (ousia, substantia) в Боге, лежа в основании полноты как Троичности?
Чуял, что своими рассуждениями рискует скорее отвратить ту, даже ту, что была уже на пределе терпения и надежды. Поздно, пожалуй, осознал, что и наиболее подробными околичными изъяснениями разума, отчетами духа не исчерпывал попутно производимой сложности, но скорее сбивал и сбивался с толку, внушая иллюзию иного рода, двойственную к тому, чего опасался: иллюзию взаимоотторжения. Ведь и сам вдруг, словно током прошит, поймал себя на том, что полукокетливо, полумалодушно пытался выведать, не ложен ли ее выбор в пользу него. Но пусть и имея в виду, что сам боялся оказаться не тем, кто нужен ей (словно помогая решить в смысле не решиться, причем обоим), невольно запутал, создавая видимость, будто не уверен, она ли та, что нужна ему. Этот клуб запутанных опасностей и пустородящих мнимостей ему отчего-то разорвать было страшнее (ну, как же: «неспортивно»! ), нежели просто и прямо ощутить правду сердцем, сообщив то же и так же сердцу ее. Поведав вполне, без экивоков и самоистязательной состязательности, сутяжничества благородных и отягощения бессмысленными разменами…
Дважды по тринадцать. Но ведь и двадевять – меж всеми нюансами-осложнениями, казалось бы, непохожих историй, что воплотили, вместили простую любовь… Создается впечатление, что и он, и она, быв подвержены единому info-фону и etho-тону, пали жертвами чар поттерьянства, шарма тотального оцифрования: легкомысленно допустить убийство в легковесном исповедании отмены, уповая на обратимость размена? Убить, и прежде всего – злословием: душу, страну, любовь, память, – а затем недоумевать, может ли истинное быть столь хрупким, невоскрешаемым, термодинамически невозвратным? Мол, не срослось само – «не твое». Где-то даже пародируя евангельскую тему, к ропоту прилагая хулу.
Охужденная, встать!