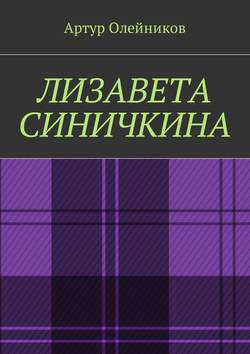Читать книгу Лизавета Синичкина - Артур Олейников - Страница 3
Часть первая. Галя
II
ОглавлениеВсе казалось Гале в доме Веры Савельевой чудным и в новинку. Даже такая мелочь, что муж и жена сидят за одним столом. За двадцать с лишним лет замужества за мусульманином Галя отвыкла от русских обычаев и с какой-то ревностью смотрела на Савельеву и на ее гражданского мужа Сергея, как старик смотрит на резвую счастливую детвору и готов все отдать, чтобы хоть на миг вспомнить беззаботный вкус молодости.
Ткаченко, снимавшему комнатку у Савельевой, Галя не понравилась. Толстозадая, рябая. Но взволновала крепкая грудь, широкие бабские бедра, обтянутые красной гладкой тканью.
Он пришел к Гале, дождавшись, пока уснет хозяйка и захрапит пьяный товарищ. Как он и думал, Галя не спала.
Ткаченко грубо теребил крепкую бабскую грудь и закрывал вспотевшей ладонью Гале рот, когда она стонала, и когда начинала извиваться, крепче держал и прижимал мощные раздавшиеся от времени и родов широкие бедра, чтобы не скрипел старый диван.
Когда все закончилось, Ткаченко ушел курить. Галя на цыпочках шла, чтобы хоть одним глазком посмотреть, где он, что делает, и спала одна.
Ткаченко она больше не интересовала и теперь просто казалась рябой и толстозадой, с уродливыми бедрами и некрасивой, большой, выпирающей грудью. В то время, как Гале Ткаченко с каждой минутой нравился все больше и больше. И она еще долго не могла уснуть и прислушивалась к его сопению, раздававшемуся из соседней комнаты, словно к песне, заворожившей, разволновавшей доверчивое бабское сердце, которое не знало ласки не настоящей любви.
Сколько не пробовала Прасковья Игнатьевна заплетать в косу жидкие волосы дочери, получалось из слабых волос одно посмешище. Сопля, выпущенная из носа, смотрелась выгодней, чем Галина коса. И платье, какой бы не было цены, смотрелось на Гале, как на жабе фата, так и просилось, чтобы его сняли и спрятали подальше, чтобы не позорить отца с матерью. Так Галя все время и ходила в каких-то рубищах вровень своей крепкой фигуре.
Не по возрасту, большая бабская грудь была для семнадцатилетней Гали все одно, что проклятье, и служила предметом вечных насмешек.
Пристанут на улице к Гале местные озорники, и давай хватать за большую некрасивую грудь, словно за вымя. Галя побежит от них, а ей вслед, словно камень летит: «Корова, Корова». Галя споткнется, упадет и приходит домой заплаканной, с разбитыми коленями.
Один раз отец Гали Столов Гаврила Прокопьевич поймал такого Галиного обидчика и, не церемонясь, в зубы. А мужики вокруг давай смеяться.
– Ты, Гаврила, так все кулаки в кровь побьешь.
– И побью! – отвечает Столов.
– Ну-ну. Гляди и Галка твоя краше станет! – смеялись мужики. – Да ты не дуйся, что же поделаешь, если и вправду корова. Держи тогда дома, чтобы не дразнили.
Отец перетерпит, обиду не покажет, придет домой и на дочку.
– Не реви, что поделать, если некрасивой народилась.
– Да в чем она виновата?! – заплачет Прасковья Игнатьевна.
– Да не виню я! Ну, пусть не жалуется, или вон дома сидит. Мужики смеются.
Поплачет Прасковья на пару с Галей и к соседке. Все легче, когда поговоришь.
– Ну что делать, кто ее замуж возьмет?! – сокрушается мать. Может, какой больной, ухаживать станет, все лучше, чем одна, мы же не вечные!
– Буду иметь ввиду, не пропадет девка, не пропадет, – обещала станичная сводница, и вроде как не обманула.
Однажды ночью в станице Мичетинская на порог сводницы явились двое таджиков. Один был молодой, стройный, в костюме, другой, полная противоположность, совсем старик, с седою острой бородкой, в желтом халате и в бархатной вишневой тюбетейке с золотою вышивкой.
Хозяин дома лениво проводил таджиков в летнюю кухню из белого кирпича и ушел, не скрывая равнодушия до дел своей жены.
В чистой побеленной комнате таджики не садились и ждали хозяйку.
Со всей округи шли в дом Проскуриной, если надо было посватать или кого свести. Как почтальон, Проскурина была вхожа в любой дом в деревне, но только если почтальон приносит новости, эта своенравная женщина собирала новости и потом выгодно их продавала. И подноготную чуть ли не каждой станичной семьи Проскурина знала назубок, лучше, чем свою родословную.
Валентине Проскуриной нравилось казаться барыней, свысока смотреть, решать, когда прогнать со двора, когда миловать. Чернобровая, статная, наделенная физической силой. Зимой и летом она носила на плечах дорогие белые мохеровые платки, старалась держать тон, пока не разозлится, и из столбовой дворянки не превращалась в торговку. Начинала кричать, могла и поколотить, но до рукоприкладства, как правило, дело не доходило, потому что трудно припомнить, чтобы кто-нибудь с Проскуриной в конечном итоге не согласился. Потому что при всем искусственном возвеличивании она была справедлива; и пусть кричала и колотила кулаком по столу, делала она это всегда по делу. Умный человек понимал, а с дураками Валентина Григорьевна старалась не связываться. Доводы за плечами всегда имела железные. Зла не помнила и как разгоралась, так и остывала.
Она важно вошла в кухню и села за стол. В каждом своем движении Проскурина давала понять, что сегодня и сейчас она царица положения, когда поправляла платок на плечах, когда говорила и смотрела как бы в сторону, как какая королевская особа. Не на секунду Проскурина не давала забыть таджикам, что они в гостях и зависят от ее расположения.
– Присаживайтесь, – попросила Проскурина.
Таджики сели.
Молодой таджик смущался и говорил, сбиваясь, было видно, что ему неловко.
– Нам сказали, что вы можете помочь. С невестой, – выдавил гость.
– Правильно сказали. Вам какую надо?
Сводница хитрила. Лишь только одним глазком смерив смуглых таджиков, она уже знала, какую девушку можно без особых хлопот засватать за таких. Одного сводница не знала, сколько спросить с таджиков за помощь, чтобы не продешевить.
Не придумав ничего дельного, молодой человек ответил первое, что только пришло на ум.
– Хорошую.
Проскурина, полная важности, поправила на плечах платок:
– Это можно, если средства позволяют.
Старик смотрел недоверчиво, говорить не говорил, но слушал внимательно, и по тому, что реагировал на любые повороты в разговоре, можно заключить, что все понимал. Когда речь зашла о деньгах, старик напряг слух, и его старое с желтым отливом лицо вытянулось, и стало казаться, что как будто морщин на нем стало меньше.
Проскурина даже поморщилась, увидев в преображении старика нехороший знак.
Сын тоже заметил перемену в отце, когда коснулись материальной стороны, и ему сделалось стыдно.
– Сами посудите, – стала говорить Проскурина. Не могу же я за красивую посватать такого, кто как говорится последний кусок доедает. Что обо мне потом люди подумают?! Но для вас что главное? Как я понимаю, для вас главное не столько, чтобы красивая, а чтобы отдали. Правильно я вас понимаю?
Молодому человеку сделалось неприятно. Слишком уж открыто Проскурина намекала, что они не у себя дома и должны радоваться тому, что им предлагают.
Старик тоже прекрасно понял, о чем говорит Проскурина и молча, как бы говоря сыну, что все в порядке, опустил руку Мусте на колено.
Уравновешенному, образованному Мусте никогда не пришло бы в голову вступить в перебранку с женщиной, да и с любым другим, но его всегда поражала это врожденная восточная почтенность по отношению к хозяину дома, в который ты пришел.
Муста улыбнулся отцу, и старик все также молча убрал руку с колена сына.
Проскурина нахмурилась – ух уж эти знаки, сигналы, целомудренность одного и недоверчивость другого, не по-русски, одним словом.
– Вы, я вижу, человек образованный, – обратилась Проскурина к Мусте и изучала костюм молодого таджика: классический черный пиджак, белую рубашку, строгий галстук, выдержанный в темно синих тонах, и сверкающую английскую булавку, как будто из золота. Мысли о том, что булавка золотая, как-то сразу расположили Проскурину к владельцу дорогой золотой вещи. С владельцем такой булавки можно было договориться. Ах, если б только не проклятый старик!
Владелец булавки промолчал.
– И, как человек образованный, должны понимать, что ваш случай все одно, что с красивой. Стоит денег – сто рублей, – так сказала Проскурина, словно спросила пять копеек, словно давая понять, что если не нравится, не беда, проходи, купит другой. По такой-то цене! Но кто его знает, может и в самом деле копейки по сравнению с вопросом, ведь что не говори, а «товар» у сводницы был непростой.
На озвученную цену старик нахмурил брови и зашептал на ухо сыну по-таджикски.
Проскурина разозлилась, что при ней заговорили не по-русски, чтобы она не поняла. Хотя и без русской речи Проскуриной стало ясно, как божий день, что «проклятый старик оказался никаким не таджиком, а самым настоящим жидом».
Мусте сделалось стыдно за отца, за то, что тот решил еще и поторговаться.
– Невесту и задарма хотите?! – разошлась Проскурина. Невеста вам не корова, чтобы за нее торговаться! Не на базаре. Сто рублей или ищите сами. Небось, у вас там тысячу вывалили бы. За сто рублей и разговаривать никто не стал бы. Да еще и на смех подняли бы. Считайте что это калым только по-нашему. Стоящая девка, работящая, крепкая. Красота, ни мне вам говорить, так, для забавы, она здоровых детей рожать будет. Вам, что с ней, под ручку ходить. Вам чтобы руки в доме были, чтобы детей рожала. Или вон могу Диктеревых – Светлану и красивая и из богатеньких, так она гулять будет. Ты что, старик, с ума сошел?! Ты хочешь, чтобы вам потом в каждом доме косточки перемывали?! А?
Старик испугался и замахал на Проскурину руками. Муста готов был отдать хоть тысячу, хоть две, и просил отца забыть.
– Во-во. Так что не выкобенивайся. Свадьбу у них сыграете. Потерпите, не облезете. Соберутся все только свои. Посидим, выпьем по-нашему. А как же! Ты мне здесь бородой не тряси. Говорю, потерпите, значит потерпите. Да час другой, всего лишь для виду, и забирайте и делайте с невестой все, что хотите. Ну что, согласны?
– Согласны, – отвечал Муста, и, как прежде, отец клал руку ему, опускал руку старику на колено, прося не волноваться из-за денег.
Проскурина весело улыбнулась. Как говорится, дело было в шляпе. Что уж теперь. Кто прошлое помянет – тому глаз вон.
– И правильно, а то смотри, так и без жены останешься, – рассмеялась Проскурина в адрес молодого таджика.
Муста смутился.
– Это не для меня!
– Да неужто… – Проскурина проглотила слова, впившись глазами в старика, у которого даже богатая бархатная тюбетейка не могла вас отвлечь от того, что ее хозяин был старый и лысый.
– Нет, невеста для младшего брата.
Проскурина рассмеялась.
– А я подумала, как вас, извините, вы не представлялись.
– Муста! – представился целомудренный таджик.
– Очень приятно, – улыбалась Проскурина. А меня – Валентина Григорьевна. А батюшку, еще раз, ради бога, прошу извинить.
– Ничего страшного, отца зовут Фирдавси.
– Федор что ли по-нашему?
Муста промолчал.
– А как же мне его звать? Небось, уж сто лет как в обед. Вон лысый уж совсем.
– Фирдавси Абуабдулло Боев, – ответил Муста.
Проскурина стала креститься.
– Господи, чего только на свете не бывает!
Муста смутился.
– Ну что теперь уже поделаешь! Абдула так Абдула, нам какое дело.
– Абуабдулло, – поправил Муста.
– Как вам нравится, а деньги попрошу вперед. Вы меня извините, ну так уж у меня заведено. Всякое в жизни бывает. Вам не понравится, а я буду хлопотать.
Муста достал дорогое портмоне из кожи, открыл и стал отсчитывать деньги.
Проскурина скривилась и мысленно ругала себя. Портмоне было битком набито деньгами. С такого можно было и больше спросить, не почувствовал бы.
Проницательный Муста, не говоря ни слова, вместо положенных ста рублей подал своднице двести.
Проскурина разомлела. Лицо хозяйки, как все равно после бани, сделалось мягким. Еще сто рублей сверху, и Проскурина, наверное, умерла бы от удовольствия.
Фирдавси нахмурил брови.
– Благодарю. Дело делаете, – брала Проскурина деньги, и словно отчитываясь перед стариком, зачем столько переплатили, подставляла ему под нос синенькие купюры по двадцать пять рублей и говорила:
– На счастье!
Идти смотреть невесту решили на следующий день. И в воскресенье – всех, кого нужно, больше шансов застать и что, как говорится, откладывать в долгий ящик.
Заранее договариваться с родителями девушки Проскурина не пошла. Во-первых, не принято, а главное, боялась раньше времени проговориться, что жених нерусский. Опасалась хитрая сводница спугнуть родителей невесты. Мало ли что можно за ночь – другую передумать. И неважно, красивая девка или такая, что только дома под одеялом держать.