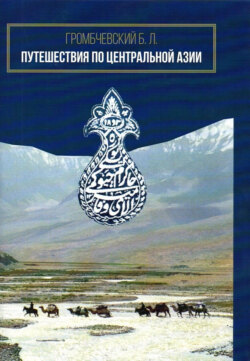Читать книгу Путешествия по Центральной Азии - Б. Л. Громбчевский - Страница 9
Часть I. Кашгария. Страна и люди: путешествие по Центральной Азии
Глава V
ОглавлениеКиргизские браки. Сватовство. Свадьба и переезд невесты. Свадебный пир. Киргизские собаки. Сурки в Алайской долине
Еще одно чрезвычайно дорогостоящее событие в жизни киргиза – женитьба. За жену нужно заплатить калым (выкуп), который в зависимости от знатности и зажиточности ее рода доходит до таких сумм, что новоявленный супруг нередко разоряется до нитки.
В охотничьих странствиях меня постоянно сопровождал Магомет-Сеид-Хан-Тюра-Сеид, т. е. документально подтвержденный потомок Магомета и к тому же племянник Худояр-хана, последнего кокандского хана, и его удайчи (адъютант). Он взял в жены одну из дочерей Худояр-хана и заплатил за нее калым в размере 59 тыс. тиллей, т. е. золотых дукатов, – сумму по тем временам баснословную. Уплата столь значительного калыма привела к тому, что Магомет-Сеид разорился и был вынужден избавиться от своих ловчих соколов и ястребов, большим любителем и знатоком которых он являлся. Стоит добавить, что приятель мой женился вовсе не тогда, когда Худояр-хан сидел на троне, а спустя десять лет после установления российского владычества над ханством, когда, если мне не изменяет память, Худояр уже умер в изгнании в России[58], дочь же его принесла мужу в качестве приданого только барские замашки и свой титул ойим (госпожа).
Сватовством у киргизов занимаются обычно родители будущих супругов, когда те еще не вышли из младенческого возраста, и с этого момента начинается ежегодная уплата определенной части калыма деньгами, домашними животными или вещами. В случае смерти одного из помолвленных другой вступает в брак с его ближайшим родственником. Однажды я был приглашен на свадебное пиршество к богатому киргизу из рода Юваш, чей 15-летний сын женился на 26-летней вдове брата своего тестя. Причина неравного брака заключалась в том, что первая невеста этого юноши умерла, а других дочерей у его будущего тестя не было. Случается и так, что после удачного сватовства и уплаты части калыма умирает отец жениха, а похороны и поминки в первую годовщину смерти настолько плачевно сказываются на благосостоянии будущего мужа, что он не в состоянии продолжать выплачивать калым. Тогда он вынужден ликвидировать самостоятельное хозяйство и, забрав оставшийся скот, поступает в услужение, как простой батрак, к своему будущему тестю, при этом полагающаяся ему плата и прирост живого инвентаря идут на уплату калыма. Жениху подчас добрых десять лет приходится ждать, а его невеста старится у него на глазах.
Свадебные расходы берут на себя родители невесты, а кроме того, дают за ней приданое, соответствующее их благосостоянию и тому положению, какое они занимают среди сородичей. Обычно приданое состоит из юрты, нескольких ковров, окованных железом сундуков, разнообразной домашней утвари и нескольких домашних животных. Остальное или дают родители жениха, или же молодые живут бедно, понемногу наживая имущество либо ожидая наследства.
Переезд невесты из родительского аула в аул жениха происходит очень торжественно, посмотреть на него высыпают толпы жителей всех окрестных аулов. При этом о молодых говорят, что такой-то и такая-то «уйланды» (уй – «дом, юрта»), т. е. зажили своим домом. На первом верблюде, накрытом самым большим и красочным ковром, восседает невеста в огромном тюрбане на голове, сразу в нескольких нарядных халатах, надетых один поверх другого, а если в ее приданом окажется шуба – то и она будет надета, несмотря на летнюю пору. На ногах у невесты обуты сапоги из красной или зеленой кожи, шею обязательно украшают бусы, и чем их больше – тем лучше, позади невесты едет сундук с нарядами. Верблюда ведет отец девушки или иной уважаемый член семьи. На втором верблюде, также покрытом ковром, лежит юрта, а на ней сидит киргизская женщина, вдова – родственница или старая служанка, которая на новом месте должна заменить мать молоденькой невесте, возраст которой порой не превышает 13–14 лет. Позади нее – тоже сундук. Следом, в зависимости от степени зажиточности, идут или остальные верблюды, нагруженные разнообразными хозяйственными принадлежностями, или небольшое стадо домашней скотины, причем на всех без исключения лошадей, волов и коров навьючена всякого рода домашняя утварь. Чем больше у будущей жены таких пожиток, тем богаче ее приданое. Свадебный кортеж передвигается в окружении кавалькады всадников из аула невесты.
На полпути кортеж встречает жених, окруженный группой всадников из его аула. Все спешиваются, жених угощает приехавших кумысом и приглашает их в свой аул. Молодые сперва заходят в юрту к родителям жениха, а затем невеста и ее помощница на указанном месте быстро устанавливают свою юрту и расставляют все, что они привезли с собой. Когда приготовления закончены, невеста встает у дверей и поджидает мужа, которого провожают до юрты все его спутники. Гости входят в юрту и усаживаются рядком вдоль стен на коврах. Затем входит женщина, в одной руке у нее кумган (так на Востоке называют медный чайник, украшенный искусной чеканкой) с теплой водой, а в другой – небольшой тазик. Она кланяется всем по очереди и выливает несколько капель теплой воды на подставленные каждым гостем пальцы. Гость вынимает из-за пояса грязный платок и вытирает им смоченные пальцы. Обслужив за несколько минут 30–40 человек, женщина выходит. Таким образом, ритуальное омовение рук перед приемом пищи, предписанное религией, считается совершенным.
Гости нетерпеливо поглядывают на дверь юрты. Входит молодая девушка с дастарханом (скатертью) и расстилает его на земле перед стоящими на коленях гостями. Как правило, это кусок ситца с ярким рисунком, никогда не знавший стирки и потому усеянный пятнами, оставшимися после предыдущих пиршеств. Затем друг за другом входят несколько женщин; они несут медные миски с мясом и жестяные подносики, на которых тонким слоем лежат изюм и фисташки, иногда присыпанные мелко накрошенным сахаром. Миски расставляются симметрично, по одной на пятерых-шестерых гостей. Гости быстро ориентируются, какому количеству предназначена каждая миска, и учтиво разворачиваются лицом друг к другу, образуя полукруг; в центре каждого полукруга из пяти или шести человек стоит миска с мясом.
Самые почтенные – по возрасту или положению – гости занимают места вдоль той стены юрты, напротив которой находится дверь. Перед ними, помимо миски с мясом, ставится еще, как особый деликатес, отваренная голова подаваемого животного. Расставив все как полагается, женщины кланяются, молча пятятся к выходу и исчезают. Попытка вступить в какие бы то ни было разговоры с прислуживающими женщинами расценивается как бестактность и может вызвать сильное возмущение. Киргизские женщины не закрывают лицо в присутствии посторонних, однако мусульманский закон суров: женщина должна знать свою роль – роль рабыни, всю жизнь занимающейся тяжелым трудом. Разговаривать с киргизкой можно только в доверительной обстановке, в присутствии ближайших родственников, и только о вещах серьезных или представляющих интерес в настоящий момент. Любая шутка или смех, болтливость вызовут осуждение со стороны как самой женщины, так и окружающих.
Старейший или самый знатный среди присутствующих гость поднимает обе руки ладонями вверх и, произнося: «Бисмилло, Рахман и Рахим» («Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»), разглаживает ими бороду. Остальные, поднимая ладони, отвечают «Амин» («Да будет так»), закатывают рукава, вынимают из ножен острые, не складывающиеся ножи (наподобие финских), изготовленные местными мастерами, и протягивают руки к давно присмотренному куску мяса; своим ножом его кроят на небольшие куски и, обмакивая в насыпанную на краю миски соль или в соляной раствор, разлитый по деревянным пиалам, стоящим рядом с мисками, пальцами отправляют в рот. Разговоры стихают, слышен только хруст челюстей, тщательно пережевывающих пищу. Появляется молодая девушка с турсуком кумыса под мышкой и пиалой, из которой все по очереди пьют, а девушка наполняет ее снова и снова.
Поскольку выпить поднесенную пиалу до дна считается неприличным, каждый следующий гость выпивает то, что не допил его предшественник. Мясо исчезает из мисок с потрясающей скоростью. Наконец остается только так называемый кусочек «скромности», который делится одним из соседей на пять или шесть равных частей и раздается. Почетный гость, перед которым стоит голова съеденного животного, берет ее в руки и с большим артистизмом и проворством очищает ее от мяса, а затем, не забывая себя, раздает лакомства в виде глаза, кусочка уха или языка ближайшим соседям; те в ответ делают движение, как будто хотят приподняться, и произносят: «Алло Рыза булсун» («Да будет Бог доволен тобой»). Остальные гости берут свои ножи за острие и рукояткой дробят кости, которые по мере поедания мяса накапливаются перед ними, и высасывают из них жир и костный мозг. Кумыс или айран наливается опять всем по очереди. Завязывается беседа. Среди собравшихся всегда находится балагур-весельчак, чьи рассказы вызывают всеобщий громкий смех.
Если пиршество происходит в богатом доме, где кроме мяса можно рассчитывать и на другие кушанья, гости складывают в пустые миски обглоданные и раздробленные кости и терпеливо ждут, когда будут поданы следующие блюда, а именно: бульон, сваренный без овощей, но с добавлением репчатого лука и стручков острого красного перца; печень, легкие и сердце, нарезанные на тонкие ломтики, каждый из которых намазан таким же тонким слоем курдючного сала; желудок, нарезанный длинными и очень тонкими полосками и залитый соляным раствором. Все эти внутренности сидящие вокруг одной миски берут руками, окунают в соус и отправляют в рот точь-в-точь, как это проделывают итальянцы со своей пастой. Наконец, подается любимое киргизское блюдо – палау-аш, т. е. плов из риса, тушенного с бараньим салом, репчатым луком и красным перцем. Если же гости собрались в доме среднего достатка, где после поданного в огромном количестве мяса нельзя рассчитывать на другое угощение, то мужчины, сложив кости в миску, отодвигаются на свои прежние места у стены, вытягивают из-за поясов платки, вытирают ими жирные пальцы, после чего приступают к весьма галантному занятию – отрыгиванию. Чем изысканнее у гостя манеры и чем сильнее он хочет уверить хозяина в том, что сыт и доволен угощением, тем громче и энергичнее его отрыжка. Немного погодя входят женщины, которые, по всей видимости, подглядывают через дырочки в войлочных стенах юрты за тем, что происходит внутри; они забирают миски с костями и бросают их тут же, рядом с юртой, стае собак, которые яростно грызутся из-за каждой косточки.
Потом женщины появляются снова и вносят в кумганах чай, который расставляют рядом с подносами с фисташками. Сколько было мисок с мясом, столько будет подано кумганов с чаем; на каждый чайник полагается одна пиала, из которой все по очереди пьют. Кумган берет в руки самый молодой из пяти ближайших соседей, наливает совсем немного, выпивает, как бы желая показать, что чай не отравлен, потом наполняет пиалу более чем наполовину и подает ее старейшему в пятерке. Тот пьет медленно, подувая на чай и беседуя и время от времени закусывая фисташкой или изюминкой. Выпив, он возвращает пиалу тому, кто держит кумган. Тот наливает столько же, сколько наливал первому из пятерки, и передает второму. Затем пьет третий, четвертый, в конце пиала оказывается у наливающего, и теперь его очередь насладиться чаем. Опорожненный кумган ставят около подноса, на котором все еще лежат изюм и фисташки. Наконец находится смельчак, который протягивает руку, берет горсточку фисташек и, произнеся «баля-чекамга» («детям»), завязывает их в конец пояса, обернутого несколько раз вокруг талии.
Лед тронулся. Подносы во всей юрте моментально опустошаются. Женщины выносят кумганы, пиалы и подносы. Молоденькая девушка осторожно свертывает скатерть и, стряхнув все крошки в очаг (чтобы достаток никогда не покидал эту юрту), выходит. Праздничная трапеза окончена.
Первыми юрту покидают те, кто сидел ближе всего к выходу; ни с кем не прощаясь, со словами «Атым’га карайман» («Пойду взгляну, что там с моей лошадью происходит») они выходят. Юрта постепенно пустеет, последними уходят почетные гости, которых хозяин провожает до лошадей, а иногда даже сам садится на коня и провожает их несколько километров. Из аула все разъезжаются. Лишь собаки еще долго не могут успокоиться.
Киргизы держат множество собак, а точнее, позволяют им беспрепятственно размножаться, поскольку нуждаются в них для охраны своих стад от волков и грабителей, но не кормят их в принципе. Собаки эти тощие, с длинной шерстью, очень злобные и брехливые; как и собаки в Константинополе, они выполняют роль дезинфекторов, пожирая с голоду все, что может отравить воздух. Летом в Алайской долине они неплохо питаются, охотясь с отточенным мастерством на сурков, которых в большом количестве можно встретить буквально на каждом шагу.
Сурок – животное большое, жирное, весом около 27 кг[59], очень осторожное. Живут сурки колониями. Есть среди них такие, что постоянно выполняют роль сторожей: стоя столбиком, они внимательно осматривают окрестности и предупреждают о малейшей опасности пронзительным свистом. В ту же секунду все семейство, которое вышло на поиски корма или просто греется на солнышке, опрометью бросается к своей норе, в которую ведут многочисленные ходы, и в одно мгновение исчезает в ней. На свою беду, сурки чрезвычайно любопытны, за что им часто приходится расплачиваться собственной жизнью. О любопытстве сурков хорошо известно киргизским собакам, и они используют его во время охоты на этих зверьков. Не раз на протяжении нескольких часов, стоя с биноклем в руках далеко в стороне и затаив дыхание, я наблюдал, чем же закончится поединок двух звериных инстинктов. Происходил он следующим образом.
Семейство сурков, состоящее из 15–20 особей, кормится в траве или греется на солнце невдалеке от своих нор. Стоящий столбиком сторож издалека видит подкрадывающуюся собаку и свистом предупреждает всю стайку. Зверьки стремглав бегут к норам и прячутся. Увидев, что ее заметили, собака мчится за стайкой, следя за той норой, в которой спрятался сторож, – поскольку знает, что сурок долго не выдержит и тут же вылезет обратно, чтобы посмотреть, что творится на белом свете. И когда мордочка зверька высовывается из норы, собака моментально останавливается и застывает. Сурок вылезает полностью и встает на задние лапки, прислушиваясь и подозрительно оглядываясь вокруг. Неожиданно – достаточно собаке пошевелиться, или сурок, приглядевшись, почует опасность, – сторож с пронзительным свистом прячется в норе. Но прежде чем собака успеет сделать несколько десятков шагов, голова сурка снова показывается из норы, и в то же мгновение собака превращается в изваяние. Так повторяется несколько раз до тех пор, пока расстояние между собакой и сурком не сократится настолько, что собака одним прыжком может настичь его и схватить сзади за шею. Сурок сопротивляется отчаянно, и так как когти у него длинные и острые, а зубы такие мощные, что он вцепляется в добычу наподобие английского бульдога и не выпустит ее, не вырвав куска мяса, – поэтому раны, нанесенные сурком, как правило, очень серьезные. По этой причине собака, схватив сурка за шею, старается подбросить его вверх так, чтобы он упал навзничь. Когда сурок вскакивает на ноги, собака снова хватает его за шею и снова подбрасывает вверх. Она проделывает это до тех пор, пока расшибленное, обезумевшее от страха животное не перестает сопротивляться, и собака его загрызает. Ловкость, которую проявляют собаки в этом соперничестве, вызывает изумление, но доказательством того, что оно представляет для них серьезную опасность, служат многочисленные шрамы на их шкурах. Помимо легиона собак, охотящихся на сурков, истребляют их также волки и медведи. Последние раскапывают целые норы, добираясь до глубоких галерей, в которых сурки залегают на зимнюю спячку; нередко они тратят на это целый день, но если добираются до цели, то уничтожают все семейство.
Опасность для сурков представляют также и хищные птицы: соколы, сипы и орлы, которые парят высоко в небе и камнем падают вниз на жертву. От птиц сурки защищаются скорее с помощью когтей, чем зубов, и при нападении переворачиваются на спину. В этой позе крылатые хищники на них не нападают, опасаясь их длинных и острых когтей. Однажды случайно мне довелось наблюдать, как огромный гималайский орел-бородач, который с легкостью может поднять в воздух барана, теленка или жеребенка, прекратил свое нападение на сурка и бросился в сторону, как только тот перевернулся на спину. Схватил он его лишь тогда, когда сурок снова вскочил на лапы и попытался удрать в нору.
Вся долина Большого Алая изрыта норами сурков, а потому представляет существенную опасность для лошадей, особенно во время быстрой езды – байги.
Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось рассказать об Алайской долине и ее обитателях.
Долина эта с юга ограничена уходящими в небо вершинами Заалайского хребта, покрытыми вечными снегами, а за ними на высоте 4145 м раскинулось огромное озеро Кара-куль («черное» или «драконье озеро»), длина окружности которого составляет 120 км, и самое высокое плоскогорье Центральной Азии – Памир. Южная окраина Памира соседствует с горной системой Гиндукуша, а все реки, берущие в ней начало, несут свои воды уже в Индийский океан.
58
В этом месте Громбчевский допускает неточность. Худояр-хан скончался в 1886 г. близ Герата в Афганистане.
59
Неточность – в среднем взрослые сурки имеют максимальный вес 8–10 кг.