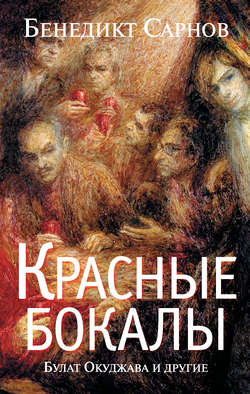Читать книгу Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Бенедикт Сарнов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Это была у нас тогда такая фигура речи
ОглавлениеВошла она в наш словесный обиход из одной песни Галича. Была тогда у него такая песня – про полковника, не посмевшего 14 декабря 1825 года вместе с друзьями-единомышленниками выйти на Сенатскую площадь:
Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам: «Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»
Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.
И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.
И в то роковое утро
(Отнюдь не угрозой чести)
Казалось куда как мудро
Себя объявить в отъезде…
…Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы…
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!
Эта галичевская песня только притворялась экскурсом в древнюю историю. На самом же деле она была тогда жгуче актуальна: недаром в первом тогдашнем печатном издании (зарубежном, конечно) под ее текстом стояла дата: 22 августа 1968 года. В тот день семеро смельчаков вышли на Красную площадь с плакатами, выражавшими солидарность с жителями оккупированной нами Праги. Все мы тогда думали и чувствовали так же, как они, но сидели по своим кухням, «пили вино, как воду» и кричали (не очень громко): «Тираны!» А на площадь вышли только те семеро.
И именно к нам, сидевшим тогда по своим кухням (не исключая, впрочем, и себя самого), обращал автор последние строки этой своей песни:
И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Перед нами (я имею в виду тот наш узкий круг, тесную нашу компанию) вопрос этот – выходить или не выходить «на площадь» – встал вплотную, когда пришло известие об исключении из Союза писателей Солженицына.
Прошел слух, что Александр Исаевич (Саня, как мы меж собой тогда его называли) потребует (кажется, даже уже потребовал), чтобы все его единомышленники (точнее, те, кого он в то время полагал своими единомышленниками) в знак солидарности с ним демонстративно вышли из Союза писателей, чуть ли даже не прямо швырнули в морду начальству свои членские билеты.
«Что за чушь!» – наверно, подумает сегодня каждый, кому доведется прочесть этот мой рассказ. Как мог он это от вас потребовать? И как вы могли поверить этому нелепому слуху?
Поверили, потому что слух этот вполне согласовался с тем представлением о Сане, какое у нас тогда сложилось. И сложилось оно не на пустом месте. Такое требование было бы вполне в его, Санином, духе, о чем может наглядно свидетельствовать такое его письмо, которое мне случилось прочесть совсем недавно:
6.1.74
Дорогая Сарра Эммануиловна!
Хочется спросить – не Вас, но, быть может, при Вашем посредстве: до каких же пор писатели будут вести себя как куры – каждая покорно ждет, когда доедет очередь резать ее, и беспечно не мешает резать других?
Чего же стоит такая «общественность» и чему же могут научить народ такие писатели, зачем они тогда и книги пишут? Неужели предстоящее, всем известное исключение Лидии Чуковской и Владимира Войновича пройдет беспрепятственно, без сопротивления (активного противодействия, а не пустых протестов вослед)? Если так, то, право же, достойная писательская общественность заслуживает презрения ничуть не меньшего, чем ее казенное руководство. Как-никак, а большинство-то – у нее.
Если с кем будете об этом толковать – можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.
Жму руку,
А. Солженицын
Сарра Эммануиловна Бабёнышева, литературовед и критик, к которой было обращено это письмо (на самом деле – не к ней, конечно), была одним из тех его «порученцев», что безропотно – разумеется, не по службе, а по душе – выполняли каждое его распоряжение.
А в том, что это было именно распоряжение, не может быть ни малейших сомнений. Не просьба, не пожелание, не мнение, которое он просит довести до сведения собратьев по перу, а – Приказ Верховного Главнокомандующего. И именно такого приказа мы ждали от него тогда, в ноябре 1969 года.
В тот раз собрались у меня. Собрались в обычном нашем составе: Корниловы, Войновичи, Боря Балтер. Кажется, приехал из своего Беляева и Эмка (Наум Коржавин), хотя добираться до меня оттуда ему было не в пример труднее, чем жившим по соседству Войновичу, Корнилову и Балтеру.
«Выходить на площадь» никому из нас тогда не хотелось. И у каждого были на этот счет свои уважительные причины. У кого – обстоятельства домашние, не позволявшие решившемуся на это обрекать свою и без того трудно живущую семью на полное нищенство. Кто-то ссылался на более высокие творческие мотивы: он кончает и вот-вот завершит давно начатый роман. (Как в песне Булата: «Дайте дописать роман до последнего листочка»; не этой ли – или похожей – ситуацией было продиктовано это его умоляющее «Дайте!»?)
Всё это, конечно, ни в коей мере не означало, что мы не хотим, не смеем, не собираемся протестовать.
Написать (или подписать) письмо, осуждающее исключение Солженицына и требующее, чтобы такое серьезное дело решалось не келейно и не начальством, а при активном участии всей писательской общественности, – это для всех нас тогда не составляло проблемы. Таких протестующих писем мы в то время понаписали и понаподписывали уже много. Одним больше, одним меньше… Эка важность!
Но демонстративно объявить о своем добровольном выходе из Союза писателей – это было совсем не то что сочинить или подписать какое-нибудь протестующее письмо. Это уже был бы поступок неизмеримо более серьезный, чреватый для тех, кто осмелился бы на такое пойти, куда более грозными и опасными последствиями.
Шум на том нашем сборище, где решался вопрос, будем или не будем мы «выходить на площадь», был большой.
Орали вразнобой, но все, в общем, одно и то же:
– Не стану я этого делать! Даже и не подумаю!
– А если он потребует?
– Кто?
– Ну он, Саня?
– Да кто он такой, чтобы требовать? Плевал я на него! У меня своя жизнь!
В этот хор голосов неожиданно внесла свою ноту моя жена, сообщив собравшимся, что у нее нет шубы и даже в самые сильные морозы она вынуждена выходить на улицу в легком демисезонном пальто.
В ответ на это заявление последовала реплика Корнилова:
– Бен, купи жене шубу! Ей не в чем выйти на площадь!
Все рассмеялись, и характер обсуждения из нервной, напряженно драматической сразу перешел в совсем другую, юмористическую тональность.
Тем дело и кончилось.
А вскоре из ставки верховного главнокомандующего пришел новый приказ: легенда меняется, выходить из Союза никому не надо, можно обойтись обычными протестами.
Всё это было – напоминаю – в 1969-м.
А создать свой журнал четыре мудреца замысливали в 1973-м, то есть четыре года спустя.
Много чего случилось в нашей жизни за эти четыре года.
Оба Володи к этому времени уже перешли свой Рубикон: открыто, без всяких псевдонимов стали печатать свои книги на Западе. Один из них (Войнович) был уже исключен из Союза писателей. Со дня на день должны были исключить и второго Володю – Корнилова. И уже исключенному из партии Вике, которого до поры спасало от этой крайней меры его лауреатство, тоже недолго оставалось хранить свой писательский членский билет. Так что из всех четырех мудрецов я один еще нерешительно топтался на своем берегу того Рубикона, не решаясь ступить в воду. Разве только так, слегка замочил ноги, написав и отправив в секретариат протест по поводу исключения Войновича, но так и не решившись отдать этот свой протест иностранным корреспондентам, то есть сделать его достоянием гласности. И лишь сейчас, обсуждая возникшую вдруг нашу журнальную затею, я почувствовал, что уже вошел в тот Рубикон по колено, по пояс, по грудь и вот меня уже подняло волной и несет – все дальше и дальше в открытое море.
Отдать мое письмо в защиту Войновича иностранным корреспондентам мне – что греха таить! – мешал страх. А тут никакого страха уже не было. Скорее даже наоборот: было что-то вроде того, что Пушкин назвал упоением в бою.
Обсудив нашу затею в подробностях, каждый выбрал себе роль, тот раздел, ту рубрику будущего журнала, которую взялся вести. Предполагалось при этом, что каждому из нас предстоит обеспечивать свой раздел соответствующим материалом, вовлекая в эту нашу акцию всех, кто согласился бы принять в ней участие. Вика всё это препоручил нам, москвичам, сам же объявил, что уезжает домой, в Киев, где сразу же примется за дело – начнет рисовать обложку будущего нашего «Паруса». Похоже было, что во всей нашей затее больше всего его интересовала именно эта сторона дела. А может быть даже, и вовсе только она одна.
И вот не прошло и недели…
В тот памятный день я, как это было у нас заранее условлено, отправился к своему соавтору Стасику Рассадину сочинять очередную нашу радиопьесу «В стране литературных героев». Сочиняли мы ее, как всегда, с ленцой, охотно прерываясь на любые подворачивавшиеся нам хозяйственные или еще какие-нибудь отвлечения.
И вот Стасик включил свою «Спидолу» и стал ловить «вражеские голоса». Я к этому занятию склонности не имел: раздражала необходимость, преодолевая кагэбэшные заглушки, мучительно вылавливать из хаоса невнятных звуков золотые крупицы информации.
Но на этот раз сообщение прозвучало на удивление отчетливо и ясно.
Сейчас уж не помню, чей именно голос – «Свободной Европы», «Би-би-си», «Дойче велле» («Немецкой волны») или «Голоса Америки» – сообщил нам, что в Киеве у известного советского писателя Виктора Некрасова органами государственной безопасности был произведен обыск, продолжавшийся сорок восемь часов, после чего писатель был вызван в соответствующее учреждение для объяснений. О дальнейшем развитии событий нам будет сообщаться по мере поступления.
И тут же раздался телефонный звонок.
Он был такой пронзительный и резкий, что было ясно: звонивший предельно чем-то взволнован. Наверно, тем, что мы только что услышали.
Так оно и было.
– Тебя, – сказал Стасик, передавая мне трубку.
Звонил, конечно, Корнилов.
Отношения со Стасиком у него были натянутые, и при других обстоятельствах он ни за что бы ему не позвонил. Но тут обстоятельства были чрезвычайные, и терпеть до вечера, когда я от Стасика вернусь домой, он был не в силах.
– Слышал? – спросил он.
– Да, – сказал я, краткостью и самим тоном ответа стараясь показать, что никаких оснований для паники не вижу и вообще не телефонный это разговор.
Он и сам понимал, что не телефонный. Но не удержался еще от одного вопроса. Тоже, впрочем, весьма краткого:
– Ну?..
– Ну что ж, – бодро сказал я, уверенный, что кто бы нас сейчас ни подслушивал, смысл моего ответа, понятный только нам с Корниловым, до него не дойдет. – Теперь все зависит от того, успел ли он нарисовать обложку.
– Ну ладно, – упавшим голосом сказал Корнилов и повесил трубку.
Обложку Вика, как видно, нарисовать не успел. А если бы и успел, вряд ли органы придали бы ей серьезное значение. Компрометирующих его материалов, изъятых по ходу того сорокавосьмичасового обыска, и без этой обложки хватало.
На том и кончилась история нашего так и не состоявшегося журнала.
После обыска Вику семь дней тягали на киевскую Лубянку, допрашивали. Он ходил туда как на работу, и каждый день они держали его там с утра до вечера. Когда от него наконец отстали (поди знай, надолго ли), он решил, что с него хватит, и, получив разрешение на выезд, покинул отечество, стал парижанином, эмигрантом.
Несколько лет спустя стал эмигрантом и Войнович.
Исключенный из Союза писателей Корнилов продолжал мыкаться на родине, мучительно переживая тяготы диссидентства.
А я всё топтался на своем берегу Рубикона, так и не отважившись перейти его.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.