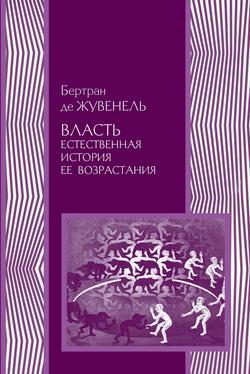Читать книгу Власть. Естественная история ее возрастания - Бертран де Жувенель - Страница 12
Книга III
О природе Власти
Глава VI
Диалектика повелевания
ОглавлениеСовременное общество являет зрелище огромного государственного аппарата – комплекса материальных и моральных рычагов, который направляет действия индивидуумов и вокруг которого организовывается их существование.
Он развивается соответственно социальным нуждам, а его болезни отражаются на общественной и индивидуальной жизни; так что, оценивая оказываемые им услуги, нам представляется почти немыслимым предположение об исчезновении этого аппарата, и мы, естественно, полагаем, что если таково его отношение к обществу, то он создан для общества.
Он состоит из человеческих элементов, которые ему предоставляет общество, его сила – это лишь мобилизованное и централизованное quantum общественных сил. Одним словом, он находится, в обществе.
Если, наконец, посмотреть, чтó им двигает, какая воля одушевляет эту Власть, оказывается, что на нее воздействует огромное количество импульсов, очаги которых находятся в разных точках общества; эти импульсы, беспрестанно противоречащие друг другу и борющиеся между собой, в определенные моменты принимают вид волн, которые сообщают целому аппарату новое направление. Вместо того чтобы анализировать это разнообразие, удобнее скрепить его, соединить в одну волю, именуемую общей. Или же волей общества. И значит, Власть, которая функционирует как орудие этой воли, должна рассматриваться как выкованная самим обществом.
Власть настолько зависит от нации, а ее деятельность настолько соответствует общественным потребностям, что почти неизбежно приходит на ум, будто органы управления были сознательно изобретены или бессознательно порождены обществом для его собственного пользования. Вот почему правоведы отождествляют государство с нацией: государство, по их мнению, есть персонифицированная нация, организованная как дóлжно для того, чтобы управлять собой и общаться с другими нациями.
Весьма красивая точка зрения; к несчастью, она не принимает в расчет одного слишком часто наблюдаемого явления: захват государственного аппарата одной частной волей, которая использует его, чтобы господствовать в обществе, и злоупотребляет своим положением ради эгоистических целей.
Тот факт, что Власть может отступать от своего справедливого основания и от своей справедливой цели и отделяться, так сказать, от общества, чтобы существовать над ним как отдельное тело и угнетательница, легко опровергает теорию тождественности.
Власть в чистом состоянии
Здесь почти все авторы отводят глаза. Они отказываются рассматривать эту незаконную и несправедливую Власть.
Такое неприятие понятно. Но его надо преодолеть. Поскольку рассматриваемое явление встречается слишком часто, теория, не способная его учитывать, не может быть достаточно обоснованной и должна быть отвергнута.
Совершённая ошибка очевидна: она состояла в том, что знание о Власти основывалось на наблюдении за Властью, сохраняющей с обществом определенные, сложившиеся в результате истории, отношения, и качества, которые были всего лишь приобретенными, принимались за сущность Власти. Таким образом достигалось знание, адекватное относительно конкретного положения дел, но несостоятельность которого обнаруживается во время великого разлада Власти с обществом.
Неправда, что Власть исчезает, когда отрекается от источника права, из которого вышла, и когда действует в противоречии с функцией, для которой предназначена.
Она продолжает повелевать и ей продолжают повиноваться, а это и есть необходимое условие того, чтобы Власть существовала; и условие достаточное.
Следовательно, Власть не совпадала с нацией субстанциально: она имела собственное бытие. И ее сущность вовсе не состояла в ее правом деле или правой цели. Власть способна существовать как чистое повелевание. И чтобы постичь ее субстанциальную реальность, надо рассмотреть теперь именно то, без чего не бывает Власти, – эту самую сущность, которая есть повелевание.
Я возьму, таким образом, Власть в чистом состоянии – как повелевание, существующее само по себе и для себя, – в качестве фундаментального понятия и, оттолкнувшись от него, попытаюсь объяснить черты, развитые Властью в ходе исторического развития и столь изменившие ее вид.
Синтетическая реконструкция феномена Власти
Приступая к такому рассмотрению, надо полностью развеять недоразумения как эмоционального, так и логического порядка.
Невозможно построить умозаключение, объясняющее конкретные политические явления, если читатель – а такова, к сожалению, сегодня его позиция – хватается за часть этого умозаключения, чтобы оправдать свою пристрастную позицию, или с этой позиции обрушивается на него. Если, например, из понятия чистой Власти выводят апологию господствующего эгоизма как принципа организации, то в этом понятии хотят видеть зачаток такой апологии. Либо еще заключают, что Власть, в принципе порочная, есть сила, главным образом творящая зло, или приписывают это мнение автору.
Надо понимать, что мы исходим из абстрактного, четко ограниченного понятия, с тем чтобы в ходе последовательного логического продвижения вернуться к сложной реальности. Для нашего предмета существенна не «истинность» базового понятия, но его «адекватность», т. е. оно должно быть способным обеспечить связное объяснение всей доступной наблюдению реальности.
Таков ход всех наук, нуждающихся в фундаментальных понятиях, вроде «линия» и «точка» или «масса» и «сила».
Не следует, однако, ожидать – это второе возможное недоразумение, – чтобы мы подражали строгости этих великих дисциплин, по отношению к которым политика всегда будет оставаться в несравненно более низком положении. Если даже самая абстрактная с виду мысль сопровождается образами, то политическая мысль ими полностью управляется.
Геометрический метод был бы здесь уловкой и обманом. Мы ничего не можем утверждать относительно Власти или общества без того, чтобы в нашем сознании не возникали события предшествующей истории.
Наша попытка реконструировать последовательную трансформацию Власти не претендует, таким образом, на то, чтобы быть диалектической теорией, ничего не заимствующей из истории, и есть не более чем исторический синтез. Мы лишь стремимся разобраться в сложной природе исторической Власти путем рассмотрения тысячелетнего взаимодействия идеально упрощенных причин.
Одним словом, необходимо понять, что речь здесь идет исключительно о Власти в больших целостностях.
Мы уже установили, что чистая Власть состоит в повелевании, которое существует само по себе.
Это представление наталкивается на широко распространенное мнение, что повелевание есть некое следствие. Следствие естественной склонности сообщества, которое своими потребностями побуждается к тому, чтобы «отдаться» вождям.
Идея повелевания как следствия плохо подтверждается. Из двух гипотез, по предположению не поддающихся проверке, разумный метод требует выбрать более простую. Проще представить одного или нескольких индивидуумов, имеющих волю к повелеванию, чем всех, имеющих волю к повиновению, и скорее – одного или нескольких индивидуумов, движимых страстью господства, чем всех, склонных покоряться.
Разумное согласие на дисциплину является по природе более поздним, чем инстинктивная страсть господства. Оно всегда остается политическим – менее активным – фактором. Сомнительно, чтобы оно возникло само по себе и даже чтобы его способно было породить коллективное ожидание повелевания.
Более того. Идея о том, что повелевание было желанно для тех, кто повинуется, не только маловероятна. Относительно больших целостностей она противоречива и абсурдна.
Ибо она подразумевает, что коллектив, в котором устанавливается повелевание, имел общие потребности и чувства, что он был общностью. Однако широкие общности были созданы, как об этом свидетельствует история, не иначе как именно посредством подчинения разнородных групп одной и той же силе, одному и тому же повелеванию.
Власть в принципе не есть проявление, или выражение, нации, и не может им быть, поскольку нация рождается лишь в результате долгого сосуществования отдельных элементов под одной и той же Властью. Последняя обладает неоспоримым первородством.
Повелевание как причина
Эта очевидная взаимосвязь была затемнена в XIX в. метафизикой национальности. Воображение историков, потрясенное захватывающими демонстрациями национального чувства, проецировало в прошлое, даже самое отдаленное, реальность настоящего. Недавние «единства чувств» они восприняли как предшествование их нового осознания. История стала романом Нации – особы, которая, как героиня мелодрамы, в условленный час вызывала необходимого ей заступника.
Посредством странного превращения грабители и завоеватели, вроде Хлодвига или Вильгельма Нормандского, стали служить воле к жизни французской или английской нации.
Как искусство, история благодаря этому выиграла колоссально, найдя, наконец, то единство действия, ту непрерывность движения и особенно тот центральный персонаж, которых ей прежде недоставало[160].
Но это только литература. Верно, что «коллективное сознание»[161] – явление самой глубокой древности; требуется все же добавить, что это сознание имело узкие географические границы. Непонятно, как иначе оно могло быть расширено, если не посредством связывания друг с другом отдельных обществ, – а это дело повелевания.
Многие из авторов совершают чреватую последствиями ошибку, утверждая, что такое большое политическое формирование, как государство, возникает естественным образом вследствие человеческой общительности. Это кажется само собой разумеющимся, поскольку таков, конечно, в самом деле принцип общества как факта природы. Но такое естественное общество является малым. А переход от малых обществ к большим не может происходить таким же образом. Здесь нужен связующий фактор, каковым в подавляющем большинстве случаев является инстинкт не объединения, а господства. Именно инстинкту господства обязаны своим существованием большие целостности[162].
Нация не создавала сначала своих вождей по той простой причине, что она им не предшествовала ни на деле, ни по инстинкту. Пусть нам поэтому не объясняют стягивающую и согласующую энергию человеческого сообщества посредством какой-то там эктоплазмы*, внезапно возникшей из его глубин. Наоборот, в истории больших целостностей эта энергия является первопричиной, за пределы которой нельзя выйти.
Словно для того, чтобы лучше это доказать, данная энергия чаще всего приходит извне.
Первый аспект повелевания
Принцип формирования обширных образований только один – завоевание. Иногда это дело одного из элементарных обществ целостности, но часто – дело воинственной дружины, пришедшей издалека[163]. В первом случае одна гражданская община повелевает многими общинами, во втором – маленький народ повелевает многими народами. Несмотря на различия, которые необходимо допустить, когда мы переходим в область конкретной истории, не стоит сомневаться, что понятия столицы и знати обязаны частью своего психологического содержания этим древним явлениям[164].
В качестве движущих сил «синтезирующей деятельности», как ее называет Огюст Конт, судьба избирает весьма жестокие орудия. Так, современные государства Западной Европы должны признать, что их основателями были те германские племена, ужасный портрет которых нарисовал Тацит (несмотря на то, что как человек цивилизованный и немного идеалист, он был к ним благосклонен). И не стоит представлять себе, будто франки, от которых мы получили свое имя, отличались от готов, изображенных Аммианом Марцеллином, чей захватывающий рассказ заставляет нас следовать за этими бродячими племенами, грабящими и опустошающими все вокруг.
Слишком близко они от нас, чтобы можно было презирать их характер, эти нормандские основатели Сицилийского королевства, эти авантюристы – товарищи Вильгельма Бастарда**.
И нам хорошо знакома эта картина – алчная шайка, отплывающая от берега Сан-Валери-сюр-Сон***; она прибудет в Лондон, и вождь отряда завоевателей, сидящий на каменном троне, станет делить страну.
Конечно, не стоит говорить о них как о настоящих объединителях территорий, но они приходят, чтобы вытеснить других, весьма похожих, которые сделали свое дело.
Римляне, прославленные объединители, вначале не сильно отличались от таких завоевателей. Св. Августин не имел на этот счет иллюзий: «…и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в миниатюре. И они так же представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства…»[165]
Повелевание «для себя»
Таким образом, «государство» возникает, в сущности, благодаря успехам «разбойничьей шайки», которая ставит себя выше отдельных маленьких обществ и – сама организованная в общество настолько братское и справедливое, насколько это требуется[166], – представляет перед лицом побежденных и покорных поведение чистой Власти.
Эта Власть не может ссылаться ни на какую законность. Она не преследует никакой справедливой цели; ее единственная забота – эксплуатировать ради своей пользы завоеванных, покоренных, подвластных. Она питается населением, над которым властвует.
Когда Вильгельм делит Англию на шестьдесят тысяч рыцарских ленов, это определенно означает, что каждая из шестидесяти тысяч человеческих групп будет обеспечивать своим трудом средства одному из победителей. В глазах завоевателей это единственное оправдание существования покоренного населения. Если бы нельзя было сделать его полезными таким образом, то не было бы резона оставлять ему жизнь. Весьма примечательно, что там, где завоеватели – более цивилизованные, местное население совсем не будет использоваться и в конечном счете окажется истребленным, как бесполезное для завоевателей, не имеющих в нем надобности, – так было в Северной Америке и в Австралии. Туземцы лучше выживают под господством испанцев, которые их порабощают.
История неумолимо свидетельствует, что между победителями – членами государства и их побежденными не было других непосредственных отношений, кроме отношений эксплуатации.
Когда турки утвердились в Европе, они жили на харадж (Kharadj)*, который им платили немусульмане, – те, чей костюм, отличаясь, указывал, что они не входят в число победителей. Это был как бы ежегодный выкуп, цена за позволение жить, которую должны были платить те, кого могли убить.
Римляне воспринимали вещи точно так же. Они вели войны ради непосредственной выгоды, драгоценных металлов и рабов; победа тем более шумно приветствуется, чем больше она приносит богатства и чем большее число захваченных жертв приводит за собой консул. Отношения с провинциями состояли по сути во взимании дани. Завоевание Македонии осталось в сознании римлян тем моментом, начиная с которого оказалось возможным жить полностью на «провинциальные» – т. е. выплачиваемые покоренными народами – налоги.
Даже в демократических Афинах платить налог считалось недостойным гражданина. Сундуки заполнялись податями «союзников», и наиболее популярные вожди добивались любви граждан, увеличивая это бремя. Клеон доводит подати с шестисот до девятисот талантов, Алкивиад – до тысячи двухсот[167].
Кажется, повсюду большую целостность, «государство», отличает паразитарное господство одного малого общества над совокупностью других обществ.
И если внутренний строй этого малого общества может быть республиканским (как в Риме), демократическим (как в Афинах), или эгалитарным (как в Спарте), то отношения с покоренным обществом представляют точный образ повелевания самого по себе и для себя.
Чистая Власть сама себя отвергает
Вот, скажут, какое безнравственное явление! Не торопитесь.
Ибо здесь дело получает замечательный поворот: эгоизм повелевания ведет к своему собственному уничтожению.
Чем больше господствующее общество, побуждаемое своим социальным аппетитом, расширяет сферу своего господства, тем более недостаточной становится его сила, чтобы сдерживать растущую массу подвластных и защищать от аппетитов других все более богатую добычу.
Вот почему спартанцы, которые представляют совершенную модель эксплуататорского общества, ограничили свои завоевания.
И чем больше господствующее общество утяжеляет бремя налога, тем более сильное желание стряхнуть это ярмо оно будит у подвластных. Афинская держава освободилась от этого ярма, когда Спарта стала требовать большей дани. Поэтому спартанцы взимали с илотов только умеренную арендную плату и разрешали им богатеть.
Они умели дисциплинировать свой властный эгоизм. Согласно формуле Иеринга, у спартанцев эгоизм вел силу к праву.
Но с какой бы осмотрительностью ни осуществлялось господство, оно имеет свой срок. Господствующая группа со временем редеет. Ее силы исчерпываются настолько, что в конце концов она становится неспособной сопротивляться силам чужеземцев. Что тогда остается делать, как не черпать силу в массе подвластных? Но Агис* вооружает периэков и меняет их положение, только когда число граждан падает до семисот и Спарта в агонии.
Лакедемонский пример иллюстрирует проблему чистой Власти. Основанная на силе, она должна сохранять эту силу в разумном соотношении с массой порабощенных. Самая элементарная предусмотрительность вынуждает тех, кто господствует, укрепляться товарищами, набираемыми среди подвластных. В зависимости от того, является ли форма господствующего общества полисной или феодальной (соответственно, Рим или «норманны» Англии), этот союз принимает форму либо распространения на «союзников» прав полиса, либо возведения зависимых крестьян в рыцарское достоинство.
Отвращение к этому необходимому процессу обновления силы особенно ярко проявляется в гражданских общинах. Вспомним, как протестовал Рим против программы Ливия Друза**, сформулированной в интересах союзников, и разорительную войну, которую республика вела перед тем, как уступить.
Итак, отношение господства, установленное в результате завоевания, стремится к сохранению; Римская империя есть власть Рима над провинциями, regnum Francorum* есть господство франков в Галлии. Таким образом создаются системы, в которых не прекращается как бы наложение повелевающего общества, на общества повинующиеся; власть Венеции дает здесь относительно недавний пример**.
Установление монархии
До сих пор мы подходили к господствующему обществу так, как если бы оно само по себе было недифференцированным. Из рассмотрения маленьких обществ мы знаем, что это не тот случай. В то время как со стороны этого господствующего общества на подвластные ему общества происходит воздействие повелевания, которое существует само по себе и для себя, внутри господствующего общества силится утвердиться повелевание по отношению к самому этому обществу. Это личная – царская – власть. Она могла потерпеть неудачу и исчезнуть до начала широких завоеваний, как в случае Рима. Ее монархическая карта могла оказаться еще не разыгранной в момент завоеваний, как в случае германцев. Наконец, эта карта могла быть уже разыграна и партия частично выиграна, как в случае Македонии.
Если существует такая царская власть, объединение империи дает ей огромный шанс, с одной стороны, упрочить завоевание и, с другой – положить конец квазинезависимости и квазиравенству компаньонов по завоеванию.
Что для этого требуется? Чтобы rex Francorum***, нуждающийся для поддержания Власти силы во всех своих союзниках, вместо того чтобы выполнять роль вождя победившего войска, организовал в завоеванном обществе выгодную для себя партию скрытых сил, которую он мог бы использовать как против партий этого общества, так и против своих собственных союзников, низводя их самих таким образом до положения подвластных.
Именно это, как мы видим, в самой грубой форме делают турецкие султаны. Из воинственных феодальных князей они превращаются в абсолютных монархов, когда становятся независимыми от непобедимой турецкой кавалерии, создав «новое войско» (Yeni cera; отсюда «янычары») из христианских детей, которые всем обязаны султанам, щедро осыпающим их привилегиями, и потому составляют в их руках послушный инструмент. Те же самые устремления побуждают турков выбирать и чиновников из христиан.
Принцип повелевания ничуть не изменился: это всегда сила. Но вместо того, чтобы быть общей силой в руках завоевателей, теперь это личная сила в руках короля, который может использовать ее даже в отношении своих бывших компаньонов.
Чем большим будет количество скрытых сил, которыми удастся завладеть королю, тем больше он будет иметь власти.
Уже немало – привлечь непосредственно на свою службу отдельных подданных, давая им возможность занять положение, совершенно противоположное тому, на которое они могли надеяться при тирании.
Еще лучше, если король может привлечь к себе сообщество подданных, сокращая им те налоги, которые не приносят выгоды ему самому: это борьба против феодализма.
И, наконец, дело обстоит наилучшим образом, если он может обратить себе на пользу традиции каждой группы, входящей в сообщество: так делал Александр, выдававший себя за сына Гора*. Не у всех наставником был Аристотель**, но столь естественный прием так или иначе используется во многих случаях. Нормандский король Генрих I Английский женился на представительнице древней саксонской королевской династии. И как только у них родился сын, распространяется пророчество: будто бы последний из англосаксонских королей, Эдуард Исповедник, предвещал своему народу, что этому ребенку будет предназначено положить конец череде захватов власти и восстановить в стране законное правление[168].
От паразитизма к симбиозу
Вот в общих чертах логический способ образования того, что можно назвать «национальной монархией», если отвлечься от анахронического употребления слова «нация».
Сразу становится очевидным, что природа Власти совершенно не изменилась, что речь всегда идет о повелевании самом по себе и для себя.
Власть обязана своим существованием двойному триумфу: военному – триумфу завоевателей над покоренными и политическому – триумфу короля над завоевателями.
Один-единственный человек может править громадной массой народа, потому что выковал инструменты, позволяющие ему странным образом быть «самым сильным» в отношении кого угодно: это государственный аппарат.
Покоренное целое создает «благо», которым монарх живет и посредством которого он поддерживает свое великолепие, питает свою силу, награждает преданных ему и добивается целей, выдвигаемых перед ним его честолюбием.
Но с таким же успехом можно сказать, что это повелевание установилось благодаря тому, что монарх покровительствовал побежденным; что он силен благодаря тому, что сумел привлечь к себе слуг и вызвать всеобщую готовность к повиновению; что, наконец, он извлекает у народа средства благодаря тому, что сам обеспечивает процветание последнего.
И то и другое, сказанное выше, является совершенно верным. Власть оформилась, укоренилась в привычках и верованиях, развила свой аппарат и умножила свои средства, поскольку сумела обратить на пользу себе существующие условия. Однако обратить их себе на пользу она смогла, только служа обществу.
Она всегда ищет лишь собственного могущества; но путь к могуществу пролегает через служение.
Когда лесник подрезает лесную поросль, чтобы способствовать росту деревьев, а садовник собирает улиток и устраивает молодым растениям парник или помещает их в счастливый жар теплицы, мы не считаем, что тот или другой действуют из любви к растительному народу. Конечно, они «любят» его гораздо холоднее, чем это можно себе представить. Однако любовь, не являясь логическим мотивом их забот, непременно их сопровождает. Разум хотел бы, чтобы человек вел себя без привязанности. Но человеческая природа так устроена, что привязанность подогревается заботами.
Вот что мы должны иметь в виду, размышляя о Власти. Повелевание, которое принимается в качестве цели, заставляет заботиться об общем благе. Те же самые деспоты, что оставили в пирамидах свидетельство чудовищного эгоизма, регулировали также течение Нила и удобряли поля феллахов. Логика Власти побуждает западных монархов заботиться о национальной промышленности, но это становится их склонностью и страстью.
Поток повинностей, направлявшийся в одностороннем порядке из Града Повиновения в Град Повелевания, имеет тенденцию к уравновешиванию посредством встречного потока, даже если подданные не в состоянии выражать какие-либо потребности. Или, взяв другой образ, можно сказать, что растение Власти, достигнув определенной степени своего развития, не может больше питаться почвой, на которой стоит, ничего не возвращая ей назад. Власть отдает в свой черед.
Монарх вовсе не назначается коллективом, чтобы удовлетворять потребности последнего. Монарх – господствующий паразитический элемент, который выделился из господствующей паразитической ассоциации завоевателей. Но установление, сохранение и эффективность его власти обеспечиваются таким правлением, при котором может найти свою выгоду наибольшее число подданных.
Представление, что право большинства действует лишь при демократии, есть не что иное, как иллюзия. Король – один-единственный человек – скорее, чем какое-либо правительство, нуждается в том, чтобы бóльшая часть социальных сил склонялась в его пользу.
И поскольку человеческой природе свойственно, что привычка порождает привязанность, то сначала монарх действует побуждаемый интересами власти, затем – с любовью, а потом, наконец, посредством любви. Мы снова обнаруживаем мистический принцип rex.
В ходе естественного, в сущности, процесса Власть переходит от паразитизма к симбиозу.
Бросается в глаза, что монарх в одно и то же время является разрушителем республики завоевателей и создателем нации. Отсюда, впрочем, двойственность суждения относительно, например, римских императоров, проклинаемых республиканцами Рима и благословляемых подданными отдаленных провинций. Таким образом, Власть начинает свой путь к успеху, низводя то, что было в обществе наверху, и возвышая то, что было внизу.
Формирование нации под Властью короля
Материальные условия существования нации создаются завоеванием, в результате которого из разрозненных элементов формируется некий агрегат. Но это еще не единое целое. Ибо каждая входящая в его состав группа имеет свое особое «сознание». Как же может возникнуть общее сознание?
Необходимо, чтобы существовала точка соединения чувств всех членов общества. Кто же составит центр кристаллизации «национального» чувства?
Этой точкой соединения оказывается монарх. Верный инстинкт помогает ему представать перед каждой другой группой в качестве субститута, преемника вождя, к которому эта группа привыкла.
Сегодня вызывает улыбку почти нескончаемый перечень титулов, которые принимал, например, Филипп II. В этом видят только тщеславие. Но нет, это была необходимость. Повелитель разных народов, он должен был в отношении каждого принимать вид, который делал бы его для них близким. Король Франции, в Британии он должен был представляться как герцог, а во Вьенне – как дофин*. И в других случаях – соответственно.
Нагромождение титулов – лишь перечень этих видов, которые со временем обосновываются. Моральное разнообразие королевской личности воплощается в ее физическом единстве. Это важнейший процесс. Ибо трон, таким образом, становится местом взаимодействия различных эмоций, местом формирования национального чувства. Бретонцев и жителей Вьенна объединяет то, что герцог первых является дофином вторых.
Значит, в определенном смысле нация формируется на троне. Соотечественниками становятся, став преданными одной и той же личности. Теперь ясно, почему монархически сформированные народы будут с необходимостью сохранять Нацию как личность, по образу и подобию живой личности, в отношении которой сформировалось общее чувство.
Римляне понятия об этом не имеют. Они не воображают себе никакого морального существа, находящегося вне их или над ними. Они не представляют себе ничего, кроме societas**, которую образуют. И покоренные народы, если они не принимаются в эту societas – животрепещущий вопрос гражданского права, – остаются в ней чужаками. Напрасно римляне стараются с помощью ритуалов присвоить себе богов побежденных народов и перевезти этих богов в Рим – подвластные народы не объединятся в Риме; у них не возникнет чувства, что там их духовный очаг… до тех пор пока им не явятся императоры, которые предложат в качестве объекта поклонения самих себя – каждому отдельному народу в соответствии с представлением этого народа о том, каким должен быть его вождь.
Именно благодаря императорам агрегат становится единым целым.
Град Повелевания
Соберем теперь все, что повелевает, в большую систему, которую рассмотрим на разных этапах ее становления.
При первых шагах государства это соединение элементов только иногда имеет конкретное существование. Вот толпы завоевателей – готы и франки; вот объединенный римский народ; вот окружающий короля двор нормандских баронов.
Это властители, которые очевидным образом формируют тело, располагающееся над всем обществом, Власть, существующую саму по себе и для себя.
Перенесемся дальше во времени. Мы больше не находим ни поля, ни форума, ни зала, которые то переполнены людьми, то пустынны, но мы видим дворец, окруженный целым ансамблем строений, где занимаются делами сановники и служащие.
Теперь повелевает король со своими постоянными слугами, ministeriales*, «министрами». Воздвигается целый Град Повелевания, престол господства, очаг справедливости, место, которое манит, притягивает и собирает честолюбцев.
Найдем ли мы, что этот Град играет совершенно другую роль, нежели собрание властителей? Станем ли говорить, что сановники и служащие не являются властителями, но что они слуги? Слуги короля, воля которого отвечает нуждам и желаниям общества? Что наконец-то мы видим аппарат, являющийся инструментом в руках одной «общественной» воли?
Такая интерпретация не является неверной. Но лишь отчасти. Ибо хотя воля властителя и может приспособиться к обществу, она остается волей властителя. И сам аппарат не является неподвижным инструментом. Его составляют люди, которые наследуют – и фактически наследуют лишь постепенно – прежним владыкам. И которые в процессе этого наследования и благодаря сходству ситуации приобретают определенные черты своих предшественников. В такой степени, что отделившись однажды от аппарата, разбогатевшие и возвысившиеся, они будут считать себя прямыми потомками расы-завоевательницы, как об этом свидетельствуют Сен-Симон и Буленвилье.
Таким образом, Власть, состоящую из короля и его администрации, надо рассматривать как еще одно господствующее тело, лучше оснащенное для господства. И настолько лучше, что одновременно эта Власть есть тело, которое осуществляет огромное необходимое служение.
Свержение Власти
Такое служение и столь замечательная забота о человеческом обществе с трудом позволяют думать, что Власть по своей сути все еще – эгоистичный владыка, как мы это постулировали вначале.
Ее поведение совершенно изменилось. Она насаждает блага порядка, справедливости, безопасности, процветания.
Ее человеческое содержание совершенно обновилось. Она пополняется наиболее способными элементами из подвластной ей массы.
Это чудесное превращение, безусловно, может быть объяснено стремлением повелевания удержаться, что вынуждало Власть всегда быть более тесно связанной со своим substratum* посредством системы служения, циркуляции элит и выяснения настроений.
В результате Власть ведет себя практически так, как будто ее базовая, эгоистическая, природа сменилась природой приобретенной, социальной. Впрочем, Власть обнаруживает способность к колебанию, и то совпадает со своей асимптотой и представляется вполне социальной, а то возвращается обратно к своему происхождению и оказывается эгоистической.
Кажется парадоксальным, но в высшей степени социализированную Власть мы вынуждены упрекать в том, что она господствует.
Такие упреки может порождать только ее совершенное духовное творение – нация, организованная как сознательное целое. Чем сильнее ощущается национальная целостность, тем большим нападкам подвергается Власть за то, что она не есть проявление нации, а навязывается ей сверху. По стечению обстоятельств, отнюдь нередких в социальной истории, мы осознаем чуждый характер Власти в то время, когда он является уже глубоко национальным. Как рабочий класс осознает свое угнетение именно тогда, когда оно ослабевает. Факт должен приблизиться к идее, чтобы она родилась – посредством простого процесса обобщения констатированного явления, – и чтобы пришло в голову упрекнуть факт в том, что он не является идеей.
Тогда ее ниспровергают – эту чуждую, деспотическую и эксплуататорскую Власть, которая существует сама по себе и для себя! Но как только эта Власть пала, она уже больше не является ни чуждой, ни деспотической, ни эксплуататорской.
Ее человеческое содержание целиком обновилось, ее налоги теперь лишь условие ее служения: творец нации, она стала ее орудием.
При этом повелевание, сколько его есть во Власти, может трансформироваться, не переставая существовать.
Два пути
Я не собирался здесь представлять историческую эволюцию Власти, но хотел рассуждая логически показать, что Власть, полагаемая как чистая сила и чистая эксплуатация, с необходимостью стремилась договориться с подданными и приспосабливалась к их нуждам и чаяниям, что, воодушевленная одним чистым эгоизмом и принимая саму себя в качестве цели, она бы вследствие фатального процесса все равно пришла к тому, чтобы покровительствовать коллективным интересам и следовать социальным целям. Продолжая существовать, Власть «социализируется»; она должна социализироваться, чтобы продолжать существовать.
В связи с этим возникает идея устранить остаток ее исходной природы, лишить ее любой способности возвращения к своему первоначальному поведению, сделать ее, одним словом, социальной по сути.
Здесь обнаруживаются два пути – один, логический, похоже, неосуществим; другой, который кажется легким, является обманчивым.
Сначала мы можем сказать: «Власть, рожденная повелеванием и для повелевания, должна быть уничтожена». Затем, признав себя соотечественниками и объявив себя согражданами, мы сформируем societas и станем вместе заботиться о наших общих интересах; таким образом, мы создадим республику, где больше не будет ни суверенной личности – ни физически, ни морально, – ни воли, повелевающей отдельными волями, и где все сможет совершаться только посредством действительного consensus*. А значит, не будет больше иерархического и централизованного государственного аппарата, составляющего сплоченное тело, но вместо этого – множество независимых магистратов, т. е. должностей, исполняемых гражданами по очереди таким образом, что каждый из них попеременно проходит через повелевание и подчинение, в чем Аристотель видел сущность демократического устройства.
Действительно, в этом случае монархическое устройство было бы совершенно уничтожено. Подобные тенденции и вправду проявляются, но они ни к чему не приводят. Побеждает более простая идея сохранения всего монархического аппарата, только в нем физическая личность короля заменяется духовной личностью Нации.
Град Повелевания остается. Просто из дворца изгоняются его обитатели и их место занимают представители нации. Вновь прибывшие найдут в завоеванном городе память о господстве, традиции, образы и средства господства.
Естественная эволюция всякого аппарата управления
Но ради логической строгости нашего изыскания от этого наследия надо абстрагироваться. Предположим, что, допуская необходимость слаженного государственного аппарата – Града Повелевания, революционеры не хотят ничего сохранять от старого аппарата, от старого Града. Что они создают теперь совершенно новую Власть, установленную для общества и обществом, которая по определению является его представительницей и служанкой.
Я утверждаю, что возникшая таким образом Власть избежит этого изобретательного замысла и будет стремиться существовать сама по себе и для себя.
Каждая человеческая ассоциация являет одно и то же. Как только люди перестают все время сообща[169] следовать социальной цели и, чтобы заниматься этим постоянно, выделяется особая группа, а участие других членов общества допускается лишь в определенные промежутки времени, – как только производится эта дифференциация, ответственная группа формирует тело, обеспечивающее ее собственные жизнь и интересы.
Эта группа противостоит целому, из которого выходит. И возглавляет его[170]. Трудность, в действительности, состоит в том, что участвующие в собрании индивидуумы, занятые личными заботами и не имеющие между собой предварительного согласия, не чувствуют в себе должной уверенности, чтобы отклонять меры, которые господствующая группа ловко представляет им с высоты своего положения и в необходимости которых убеждает их с помощью аргументов высшего порядка, для них непривычного.
Вот почему, между прочим, римлянам разрешалось столь долго обсуждать свои законы на публичной площади: достаточно внимательно посмотреть на эту процедуру, как становится ясным – действительная роль народа ограничивалась ратифицированием того, что уже постановили магистраты в согласии с сенатом.
160
История захватывает нас лишь тогда, когда является историей кого-то. Отсюда привлекательность биографий. Но конкретные действующие лица умирают, и вместе с ними угасает и интерес к истории. Значит, его надо оживлять, выводя на свет другой персонаж. Это придает повествованию вид цепи не имеющих эмоциональной связности эпизодов – полноты, разделенной пустотами. Положение дел меняется, с тех пор как создается биография личности Нации. То было искусство XIX в. Замечательно, что всеобщая история, столь более значимая интеллектуально, не могла получить такого же размаха, какой обрели истории национальные.
161
Это выражение надо воспринимать метафорически, а не в дюркгеймовском смысле.
162
Можно отметить, что дело завоевания начинается с объединения (ирокезы, как и франки и римляне, были, если верить преданию, союзными государствами). Но когда этот процесс обретает достаточную силу, его продолжением является унификация, а завершается он покорением завоеванных. Так что в результате ядро составляют завоеватели, а протоплазму – завоеванные. Таков первый аспект государства
163
Даже если объединение осуществляется одним из обществ целостности, это обычно общество периферическое, и порядок его самый варварский.
164
Не следует, естественно, полагать, что знать всегда составляется из дружины завоевателей: история это категорически отрицает. Замечательно, однако, что знать, которая совершенно не имеет такого происхождения, как, например, французская знать XVIII в., несомненно, проявляет (см. у Буленвилье*) естественную склонность на это претендовать, свидетельствуя тем самым, что с древних времен продолжает существовать смутное воспоминание о некотором отличии класса, основанного таким образом.
165
О граде Божием, кн. IV, гл. IV*.
166
Древние авторы верно заметили, что требуется право между пиратами, чтобы они могли эффективно осуществлять свои набеги.
167
См.: A. Andréadès. Le montant du Budget athénien aux Ve et IVe siècles avant J.-C.
168
Marc Bloch. Les Rois thaumaturges. Publ. de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1924***.
169
Как это происходит, например, в обществе пиратов, где обязательно нужен вождь, но где не формируется никакого активного тела, противостоящего пассивной команде.
170
«Всякое тело, учрежденное человеком, – замечает Спенсер, – есть пример той истины, что регулирующая структура всегда стремится к увеличению власти. История каждого ученого общества, любого общества, создающегося с какой-нибудь целью, показывает, как его штаб, в целом или частью постоянный, направляет средства и определяет действия, не встречая большого сопротивления…» (H. Spencer. Problèmes de Morale et de Sociologie, éd. fr. Paris, 1894, p. 101). Мы видели в наши дни, как в этих братских ассоциациях, профсоюзах, развивается постоянный аппарат повелевания, занятый руководителями, стабильности которых могут позавидовать руководители государств. И власть, осуществляемая над членами профсоюзов, является в высшей степени авторитарной.