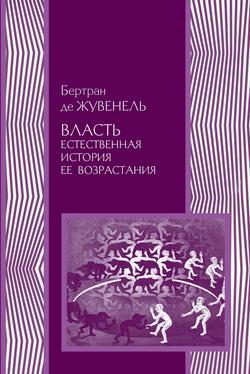Читать книгу Власть. Естественная история ее возрастания - Бертран де Жувенель - Страница 8
Книга I
Метафизика власти
Глава II
Теории суверенитета
ОглавлениеТеории, которые исторически получили в нашем западном обществе наибольшее распространение и имели наибольшее влияние, объясняют и оправдывают политическое управление посредством его действующей причины. Это теории суверенитета.
Повиновение есть долг, поскольку существует – мы должны это признать – «право повелевать в обществе в конечной инстанции», называемое суверенитетом, право «управлять действиями членов общества посредством власти принуждения, право, которому все частные лица обязаны подчиняться и никто не может противиться»[31].
Власть пользуется данным правом, которое, вообще говоря, не воспринимается как принадлежащее ей. Напротив, это право, превосходящее все частные права, право абсолютное и неограниченное, не могло бы быть собственностью одного человека или группы людей. Оно предполагает достаточно высокого владетеля, чтобы мы совершенно отдали себя его руководству и не могли бы помышлять о том, чтобы с ним торговаться. Этот владетель – Бог или Общество.
Мы увидим, что теории, считающиеся совершенно противоположными, такие, как теории божественного права и народного суверенитета, на самом деле суть ответвления от одного общего ствола – понятия суверенитета, идеи, согласно которой где-то существует право, которому подчинены все другие.
За этой юридической концепцией нетрудно обнаружить концепцию метафизическую. Она заключается в представлении, что человеческое сообщество устраивается и управляется некоей высшей волей, которая является благой по природе и которой было бы преступно противостоять, и что эта воля есть либо божественная, либо всеобщая.
От какого бы высшего суверена – Бога или Общества – ни исходила конкретная Власть, она должна воплощать эту волю: в той мере, в какой Власть выполняет это условие, она законна. И в качестве выбранной или уполномоченной она может осуществлять суверенное право. Именно здесь рассматриваемые теории, помимо их двойственности в отношении природы суверена, представляют значительное различие. Как, кому и особенно в какой мере будет передано право повелевать? Кто и как будет следить за его осуществлением, так чтобы уполномоченный не предавал замысел суверена? Когда можно будет сказать и по каким признакам можно будет узнать, что неверная власть теряет свою законность и что, низведенная до состояния простого явления, она не может больше ссылаться на трансцендентное право?
Мы не сможем углубляться в такие детали. Нас занимает здесь психологическое влияние рассматриваемых доктрин, то, каким образом они воздействовали на представления людей о Власти и, следовательно, на отношение людей к Власти; в конечном счете – на размах Власти.
Воспитывали ли они Власть, обязывая ее оставаться подчиненной некой благодетельной сущности? Направляли ли они ее в нужное русло, устанавливая средства контроля, способные принудить ее к верности? Ограничивали ли они ее, сокращая ту долю суверенного права, которую ей позволено осуществлять?
Большинство авторов теорий суверенитета имели то или иное из этих намерений. Но среди этих теорий нет ни одной, которая бы в конце концов, рано или поздно отклонившись от своего первоначального замысла, не усилила бы Власть, дав ей мощную поддержку невидимого суверена, с которым та стремилась – и ей это удавалось – отождествляться. Теория божественного суверенитета привела к абсолютной монархии, теория народного суверенитета ведет сначала к суверенитету парламента, а в конечном итоге – к плебисцитарному абсолютизму.
Божественный суверенитет
Идея, что Власть исходит от Бога, во «времена обскурантизма» поддерживала самоуправную и неограниченную монархию; это грубое и ложное представление Средних веков прочно укоренилось в невежественных умах, служа удобным terminus a quo для последующего развертывания истории политической эволюции в направлении terminus ad quem* свободы.
Здесь все ложно. Напомним (долго на этом сейчас не останавливаясь), что средневековая Власть была разделенной (с Curia Regis**), ограниченной (другими властями, независимыми в их собственных пределах) и, самое главное, она не была суверенной[32]. Ибо для суверенной Власти характерно обладать законодательной властью, быть способной изменять по своему усмотрению нормы поведения, предписанные подданным, и определять по своему усмотрению руководящие нормы собственных действий, обладать, в конечном итоге, законодательной властью, находясь при этом над законами, legibus solutus***, являясь абсолютной. Однако средневековая Власть, напротив, теоретически и практически держалась на lex terræ, понимаемом как неизменный; Nolimus leges angliæ mutare**** английских баронов выражает в этом отношении общее ощущение эпохи[33].
Вместо того чтобы быть источником величия Власти, концепция божественного суверенитета, таким образом, в продолжении долгих веков совпадала с ее ничтожностью.
Пожалуй, здесь можно процитировать яркие высказывания. Разве не говорил Яков I своему наследнику: «Бог сделал вас малым богом, призванным восседать на троне и царить над людьми»?[34] И разве Людовик XIV не наставлял дофина в весьма похожих выражениях: «Тот, кто дал миру королей, пожелал, чтобы их уважали как Его представителей, оставив только за Собой право судить их действия. Тот, кто рожден подданным, должен безропотно покоряться: такова Его воля»?[35] Разве сам Боссюэ, проповедовавший в Лувре, не писал: «Вы боги, хотя вы и умрете; а ваша власть не умрет!»?[36]
Конечно, если Бог, отец и покровитель человеческого общества, сам назначил некоторых людей для управления, назвал каждого из них своим Христом, сделал их своими наместниками, вложил им в руки меч для отправления Его правосудия, как утверждал еще Боссюэ, то король, сильный благодаря такой инвеституре**, должен представляться своим подданным как абсолютный господин.
Но высказывания подобного рода и в таком смысле встречаются только в XVII в., для средневековой теории божественного суверенитета это суть положения неортодоксальные; и здесь мы неожиданно сталкиваемся с удивительным явлением подрыва теории Власти в угоду конкретной Власти, подрыва, о котором мы уже сказали и который, как мы увидим, составляет явление весьма распространенное.
Одна и та же идея – что Власть происходит от Бога, – высказывалась и использовалась в течение более пятнадцати веков с совершенно разными намерениями. Св. Павел[37], очевидно, стремился побороть в римской христианской коммуне тенденции гражданского неповиновения, которые представляли двойную опасность, – могли навлечь на христиан преследования и уводили их деятельность от ее настоящего предмета – завоевания душ. Григорий Великий[38] понимал необходимость укрепления Власти в эпоху, когда воинственная анархия на Западе и политическая нестабильность на Востоке разрушали римский порядок. Канонисты* IX в.[39] старались поддержать шаткую императорскую власть, которую церковь восстановила ради общего блага. Какова эпоха, таковы и потребности; таковы также и представления. Но до Средних веков доктрина божественного права вовсе не превалировала: в умах доминировали идеи, исходящие из римского права.
Если же мы возьмем теорию божественного права времени ее расцвета с XI по XIV в., то что же мы констатируем?
То, что ее авторы повторяют выражение св. Павла «нет Власти не от Бога», но не столько для того, чтобы призвать подданных к повиновению Власти, сколько для того, чтобы призвать Власть… к повиновению Богу. Называя государей представителями или слугами Бога, церковь не только не желала передавать им божественное всемогущество, но, наоборот, ставила себе целью дать им понять, что они получают свою власть только как полномочие и должны, следовательно, пользоваться ею в соответствии с намерениями и волей Господина, от которого ее получили. Речь идет не о том, чтобы разрешить князю бесконечно создавать закон, но именно о том, чтобы подчинить Власть Божественному закону, который над ней доминирует и налагает на нее обязательства.
Священный король Средневековья являет нам Власть наименее свободную и наименее самоуправную – насколько только мы можем себе это представить. Ибо она связана одновременно человеческим законом, обычаем, и Божественным законом. И ни с той, ни с другой стороны она не полагается только на свое чувство долга. Но в то время как двор пэров понуждает Власть соблюдать обычай, церковь заботится о том, чтобы Власть оставалась ревностной служительницей небесной монархии, наставлениям которой она должна следовать абсолютно во всем.
Церковь предупреждает об этом Власть, передавая ей корону: «Посредством этой короны вы становитесь частью нашего священства, – говорил архиепископ королю Франции, коронуя его в XIII в. – Как мы, осуществляя духовную власть, являемся пасторами душ, так вы, осуществляя светскую власть, должны быть истинным служителем Бога…» Церковь не переставая заклинала Власть об одном и том же.
Так, Ив Шартрский писал Генриху I Английскому после его восшествия на престол: «Не забывайте, князь, что Вы слуга слуг Бога, а не их господин, что Вы защитник, а не владелец Вашего народа»[40]. В конце концов, если король плохо выполнял свою миссию, церковь располагала в его отношении санкциями, которых, должно быть, очень страшились, раз уж император Генрих IV вынужден был стоять на коленях перед Григорием VII в снегах Каноссы*.
Такова, во всем своем блеске и во всей своей силе, была теория божественного суверенитета. Поскольку она неблагосклонна к необузданной власти, то император или король, озабоченные расширением Власти, находятся, естественно, в конфликте с данной теорией. И если они, дабы освободиться от контроля церкви, доказывают иногда, как мы видим, в суде, что их власть происходит непосредственно от Бога, так что никто из смертных не может надзирать за тем, как они ее применяют, – тезис, принципиально опирающийся на Библию и послание Павла, – то особенно замечательно, что они все чаще и все успешней прибегают к римской юридической традиции, которая приписывает суверенитет… народу!
Так, один из многих поборников Власти, отважный Марсилий Падуанский, поддерживая некоронованного императора Людовика Баварского, постулирует принцип народного суверенитета на место суверенитета божественного: «Верховным законодателем человеческого рода, – утверждает он, – является только совокупность людей, по отношению к которым применяются принудительные положения закона…»[41] Весьма показательно, что Власть опирается на эту идею, чтобы предстать в качестве абсолютной[42].
Именно эта идея будет использована, чтобы освободить Власть от контроля церкви. Но чтобы оказался возможным необходимый для построения абсолютизма двойной маневр – после использования народа против Бога, использовать Бога против народа, – потребуется религиозная революция.
Потребуется кризис европейского общества, и он будет вызван Реформацией и решительными выступлениями Лютера и его последователей в защиту светской Власти: она должна была быть освобождена от папской опеки, чтобы иметь возможность принять и узаконить доктрины докторов-реформаторов. Последние преподнесли этот подарок протестантским князьям. Вслед за Гогенцоллерном, управлявшим Пруссией в качестве магистра Тевтонского ордена и на основе положений Лютера объявившим себя собственником территории, которой владел как правитель*, и другие князья, порвавшие с Римской церковью, использовали те же положения для присвоения себе в собственность суверенного права, которое до того времени было признано лишь как подконтрольное полномочие. Божественное право, которое было пассивом Власти, становилось активом.
И это происходило не только в странах, принявших Реформацию, но также и в других; в самом деле, церковь, принужденная настойчиво просить поддержки князей, больше не была в состоянии осуществлять в отношении их свои многовековые санкции[43].
Так объясняется «божественное право королей», каким оно нам является в XVII в., – отдельное положение доктрины, которая сделала королей представителями Бога перед подданными лишь для того, чтобы одновременно подчинить их Божественному закону и контролю церкви.
Народный суверенитет
Абсолютизм не мирится с тем, что не находит своего оправдания в теологии: в ту пору, когда Стюарты и Бурбоны выдвигают свои притязания, рука палача сжигает политические трактаты иезуитских докторов[44]. Эти последние не только снова и снова напоминают о главенстве Папы: «Папа может низлагать одних королей и назначать на их место других, как он уже сделал. И никто не должен отрицать его власть»[45], – но еще и создают теорию власти, совершенно не допускающую идеи о том, что короли обладают прямым полномочием, которое им вручил небесный Суверен.
Согласно иезуитам, Власть происходит от Бога, но не Бог избрал лицо, имеющее право на Власть. Бог пожелал, чтобы Власть существовала, поскольку дал человеку социальную природу[46], предназначив его тем самым к жизни в обществе; а обществу необходимо гражданское правительство[47]. Но Бог не сам устроил такое правительство. Это дело народа данного общества, который, следуя практической необходимости, должен передавать управление какому-то одному или нескольким лицам. Обладатели Власти пользуются вещью, исходящей от Бога, и значит, подчинены Его закону. Но эта вещь для них установлена также обществом и на условиях, которые сформулированы им самим. Следовательно, они ответственны перед этим обществом.
«Назначение царя, консулов и других магистратов зависит от воли большинства, – указывает Беллармин. – И если на то случается законный повод, большинство может сменить царскую власть на аристократию или демократию, и наоборот; как, мы читаем, это делалось в Риме»[48].
Известно, что высокомерный Яков I крайне раздражался, когда читал подобные суждения; они-то и побудили его написать апологию права королей*. Опровержение Суареса, написанное по указанию папы Павла V, было публично сожжено перед собором св. Павла в Лондоне.
Еще раньше Яков I утверждал, что перед лицом несправедливого порядка «народу остается безропотно избегать гнева своего короля; он должен отвечать ему только слезами и вздохами, призывая на помощь только Бога». Беллармин возражает: «Народ никогда не передает свою власть так, чтобы не сохранять ее в потенции и не иметь возможности в определенных случаях снова отобрать ее в действии»[49].
Согласно этой иезуитской доктрине, Власть устанавливается самим обществом в ходе его формирования. Гражданская община, или республика, представляет собой «некий политический союз, зарождающийся лишь при наличии определенного, открыто или негласно одобренного соглашения, по которому семьи и отдельные индивидуумы подчиняются некой высшей власти или правителю сообщества, и указанное соглашение является условием существования общества»[50].
В этой формуле Суареса признаётся общественный договор. Именно по желанию и согласию большинства сформировано общество и установлена Власть. И пока народ доверяет правителям право повелевать, существует «pactum subjectionis»*[51].
Понятно, что эта система была предназначена для противодействия абсолютизму Власти. Вскоре, однако, мы увидим, как она изменится таким образом, чтобы служить оправданию этого абсолютизма. Что для этого нужно? Из трех терминов: Бог – создатель Власти; большинство, предоставляющее Власть; правители, получающие и осуществляющие Власть, – достаточно убрать первый и утверждать, что Власть принадлежит обществу не опосредствованно, а непосредственно, что правители получают ее только от самого общества. Это теория народного суверенитета.
Однако, скажут, как раз данная теория самым убедительным образом будет противостоять абсолютизму. Сейчас мы увидим, что это ошибка.
Средневековые поборники Власти довольно неуклюже строят свои рассуждения. Так, Марсилий Падуанский, провозгласив, что «верховный законодатель» есть «все множество людей», заявляет затем, что законодательная власть была перенесена на римский народ, и торжественно заключает: «В конечном итоге, если римский народ перенес законодательную власть на своего князя, то надо сказать, что эта власть принадлежит князю римлян», т. е. клиенту Марсилия, Людовику Баварскому*. Лукавство довода простодушно выставлено напоказ. Ребенок бы заметил, что большинство было одарено столь величественной властью лишь для того, чтобы постепенно перенести ее на деспота. В дальнейшем та же самая диалектика станет более убедительной.
Возьмем Гоббса, который в середине XVII в., в великую эпоху божественного права королей, желает превознести абсолютную монархию. Посмотрите, как он остерегается использовать аргументы, взятые из Библии, которой епископ Филмер вооружится поколением позже, чтобы пасть от критики Локка**.
К выводу о неограниченности власти Гоббс придет исходя из верховенства не Бога, а народа.
Он представляет людей естественно свободными; в его лице не юрист, а физик определяет состояние первоначальной свободы как отсутствие любых внешних препятствий. Данная свобода действия осуществляется до тех пор, пока не сталкивается со свободой кого-нибудь другого. Конфликт регулируется сообразно соотношению сил. Спиноза говорит, что «каждый индивидуум имеет верховное право на все, что он может, или что право каждого простирается так далеко, как далеко простирается определенная ему мощь»[52]. Значит, нет иного действующего права, кроме права тигров есть людей.
Дело идет о том, чтобы выйти из этого «естественного состояния», в котором каждый хватает все, что может, и защищает, как может, все, что захватил[53]. Эта свобода хищников не обеспечивает никакой безопасности и не допускает никакой цивилизации. Как же было людям не прийти к тому, чтобы взаимно от нее отказаться ради мира и порядка? Гоббс даже дает формулу социального договора: «Я передаю мое право управлять собой этому человеку или этому собранию лиц при условии, что ты таким же образом передаешь ему свое право… Таким образом, – заключает он, – множество людей становится единым лицом, которое называется государством, или республикой. Таково рождение того великого Левиафана, или смертного Бога, которому мы обязаны всяким миром и всякой защитой»[54].
Человек или коллектив, которому безоговорочно передаются неограниченные личные права, оказывается обладателем неограниченного коллективного права. С этого момента, утверждает английский философ:
«Так как каждый подданный, благодаря установлению республики, является ответственным за все действия и суждения установленного суверена, то что бы последний ни делал по отношению к кому-либо из подданных, он не вредит и не может быть кем-либо из них обвинен в несправедливости. Ибо поскольку он действует исключительно по полномочию, то как те, кто вручили ему это полномочие, могут жаловаться?
Благодаря этому установлению республики каждый отдельный человек является доверителем в отношении всего, что суверен делает, и, следовательно, всякий, кто жалуется на несправедливость со стороны суверена, жалуется на то, виновником чего сам является, и поэтому должен обвинять лишь самого себя»[55].
Не есть ли это величайшая нелепость? Однако и Спиноза в одинаковой мере (в терминах менее ярких) утверждает неограниченное право Власти: «Ибо известно, что верховное право приказывать все, что хочется, принадлежит тому, кто имеет верховную власть, будет ли это одно лицо, или несколько, или, наконец, все… подданный решил безусловно повиноваться, пока царь, или аристократы, или народ сохраняют высшую власть, которая была основанием перенесения на них права»*.
Он также утверждает: «…никакого правонарушения для подданных не может приключиться от верховной власти, для которой по праву все позволительно»[56].
Итак, вот он, самый совершенный деспотизм, выведенный двумя замечательными философами из принципа народного суверенитета. Тот, кому принадлежит суверенная власть, может все, чего он хочет, ущемленный подданный должен сам считать себя виновником несправедливого действия. «Мы безусловно обязаны исполнять абсолютно все, что нам повелевает суверен, хотя бы его приказания были самыми нелепыми на свете», – уточняет Спиноза[57].
Как отличается это от того, что говорит св. Августин: «…пока мы верим в Бога и пока мы призваны в Его царство, мы не должны быть подчинены никакому человеку, который бы попытался уничтожить дар вечной жизни, данный нам Богом»[58]!
Какой контраст между Властью, держащейся исполнения Божественного закона, и Властью, которая, вобрав в себя все личные права, совершенно свободна в своем поведении!
Демократический народный суверенитет
Если сначала дано естественное состояние, при котором люди не связаны никаким законом и имеют столько «прав», сколько у них есть силы, и если предположить, что они организовали общество, поручив суверену установить между ними порядок, необходимо, чтобы суверен получил все их права, и следовательно, у индивидуума не остается из этих прав ни одного, которое он мог бы противопоставить суверену.
Это ясно выразил Спиноза: «Ведь все должны были молчаливо или открыто передать суверену всю свою мощь самозащиты, т. е. все свое естественное право. Конечно, если они хотели сохранить себе что-нибудь из этого права, то должны были в то же время обеспечить себе возможность защищать это, не подвергаясь наказанию; но так как они этого не сделали и не могли сделать без того чтобы не разделить и, следовательно, не нарушить тем самым договор, они подчинились воле – какой бы она ни была – верховной власти»*. Напрасно Локк будет настаивать на предположении, что личные права передаются не все вместе, что среди них есть такие, которые участник договора оставляет себе. Политически плодотворная, данная гипотеза несостоятельна с точки зрения логики. Руссо будет презрительно повторять доказательство: личные права отчуждаются полностью, «и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо, если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях»[59].
«Но, может быть, – обеспокоен Спиноза, – кто-нибудь подумает, что мы таким образом превращаем людей в рабов?»*** И сам отвечает, что рабами людей делает не повиновение, а необходимость повиноваться в интересах господина. Если же приказания делаются в интересах того, кто повинуется, тот не раб, а подданный.
Но как же предусмотреть, чтобы суверен никогда не искал пользы того, кто повелевает, но только пользу того, кем повелевают?
Заранее запрещается противопоставлять ему покровителя, или защитника, народа, поскольку он сам есть народ; и заранее предполагается, что у индивидуумов не остается никаких прав, которыми они могли бы облечь – против Целого – некий контролирующий орган.
Гоббс признаёт, «что состояние подданных, вынужденных безропотно подчиняться всем порочным страстям того или тех, кто имеет в своих руках такую неограниченную власть, является весьма жалким»[60].
Благополучие народа зависит только от совершенства того или тех, кому он повинуется. Так кто же они?
По Гоббсу, люди, заключая первоначальное соглашение, брали на себя обязательство повиноваться монарху или собранию; сам он определенно отдавал предпочтение монархии. Согласно Спинозе, люди обязывались повиноваться королю, дворянам или народу; и он подчеркивал преимущества последнего решения. Для Руссо в данном случае немыслим никакой выбор: люди могут связать себя повиновением только в отношении всей общности. И если Гоббс, выступая от имени человека, заключающего общественный договор, сказал: «Я передаю мое право управлять собой этому человеку или этому собранию лиц», то Руссо в проекте конституции на Корсике от имени договаривающихся сторон сказал: «…соединяюсь я телом, имуществом, волею и всеми моими силами с корсиканскою нацией, чтобы принадлежал я ей безраздельно, я сам и все, что зависит от меня»**.
Если постулируется такое право повелевания, которое не имеет никаких границ и которому частное лицо не может ничего противопоставить – логическое следствие гипотезы общественного договора, – то предполагать это право принадлежащим всем коллективно является куда менее шокирующим, чем предполагать его принадлежащим какому-то одному или нескольким лицам[61].
Как и его предшественники, Руссо считает, что суверенитет создается посредством безоговорочной передачи личных прав, которые образуют общее право, – праву суверена, которое является абсолютным. Это единое положение теорий народного суверенитета.
Но Гоббсу казалось, что передача прав предполагает кого-то, кому эти права передаются – человека или коллектив, воля которого отныне распоряжалась бы общим правом и считалась бы волей всех, была бы по закону волей всех. Спиноза и другие признавали, что общее право могло быть предоставлено воле одного, нескольких лиц или большинства. Отсюда три традиционные формы правления – монархия, аристократия, демократия. Согласно их представлениям, в результате действия, создающего общество и суверенитет, ipso facto** создается и правительство, являющееся сувереном. И этим превосходным умам казалось немыслимым, чтобы – притом что признана фундаментальная гипотеза – события происходили по-другому[62].
Руссо, тем временем, говорит, что посредством первого действия индивидуумы становятся народом и посредством следующего – дают себе правительство. Так, что народ, который в предыдущих теориях, создавая общее право – суверенитет, отдавал его, у Руссо его создает, не отдавая, и остается навечно им облеченным.
Руссо, допуская все формы правления, находит демократическую подходящей для малых государств, аристократическую для средних и монархическую для больших[63].
Динамика Власти
Но в любом случае правительство не есть суверен. Руссо называет его государем или магистратом – именами, которые могут относиться к коллективу людей: так, сенат может быть государем, а при совершенной демократии сам народ является магистратом.
Верно, что этот государь, или магистрат, повелевает. Но не на основании суверенного права, той безграничной Imperium, которая есть суверенитет. Нет, он лишь осуществляет доверенные ему полномочия.
Однако, как только идея абсолютного суверенитета осознана и существование его в общественном организме утверждено, правительственный организм проявляет великое желание и получает великую возможность этот суверенитет захватить.
Хотя Руссо, на наш взгляд, совершил большую ошибку, предположив существование столь чрезмерного (где бы его ни находить) права, заслуга его теории в том, что в ней осознается факт роста власти.
Руссо привносит политическую динамику. Он хорошо понял, что люди Власти формируют организм[64], что в этом организме живет воля[65] и что он нацелен на присвоение себе суверенитета: «Чем больше эти усилия, тем больше портится государственное устройство; а так как здесь нет другой воли правительственного корпуса, которая, противостоя воле государя [понимайте – Власти], уравновешивала бы ее, то рано или поздно должно случиться, что государь в конце концов угнетает суверена [народ] и разрывает общественный договор. В этом и заключается неизбежный порок политического организма, присущий ему с самого рождения и беспрестанно ведущий его к разрушению, подобно тому, как старость и смерть разрушают в конце концов тело человека»[66].
Эту теорию Власти отличает громадное продвижение вперед по сравнению с теориями, которые мы рассмотрели ранее. Они объясняли Власть исходя из обладания ею таким неограниченным правом повелевания, которое исходило бы от Бога или от общества в целом. Но из них не было ясно, почему от одной Власти к другой или от одной эпохи до другой в жизни одной и той же Власти конкретный объем повелевания и повиновения оказывался столь различным.
В основательной конструкции Руссо, мы, напротив, находим попытку такого объяснения. Если данная власть обретает разный размах от одного общества к другому, то это потому, что общество, единственный обладатель суверенитета, предоставило ей более или менее широкую возможность его осуществления. Если же размах одной и той же Власти изменяется на протяжении ее существования, то это прежде всего потому, что она беспрестанно стремится узурпировать суверенитет, и по мере того как ей это удается, все более свободно и более полно распоряжается людьми и общественными средствами. Так что правительства наиболее «узурпаторские» представляют наиболее высокую степень власти.
Однако остается не объясненным, откуда Власть черпает силу, необходимую для этой узурпации. Ибо если ее сила приходит к ней от общественных масс и потому, что она воплощает общую волю, то тогда ее сила должна уменьшаться по мере того как она отходит от упомянутой общей воли, и ее влияние должно исчезать по мере того как она становится отличной от общего желания. Руссо полагает, что правительство по некой природной склонности из большого становится малым, переходя от демократии к аристократии – он приводит пример Венеции* – и наконец, к монархии, которая кажется ему заключительным состоянием общества и которая, став деспотической, в конечном итоге приводит к смерти общественного организма. История не показывает нам нигде, чтобы такая последовательность была неизбежной. И непонятно, откуда кто-то один мог бы извлечь средства для осуществления воли, все более и более полно отделяющейся от общей воли.
Недостаток теории Руссо в ее неоднородности. У нее есть достоинство – она рассматривает Власть как факт, как средоточие силы; но она пока еще представляет суверенитет как право, в духе Средневековья. Здесь есть путаница, из-за которой остается необъясненной сила Власти и остаются неизвестными силы, способные – в обществе – ее умерить или остановить.
Тем не менее какой прогресс по сравнению с предшествующими системами! И в отношении сути дела – какая проницательность!
Как суверенитет может контролировать Власть
Созданная Руссо теория народного суверенитета являет поразительный параллелизм со средневековой теорией божественного суверенитета.
Та и другая допускают неограниченное право повелевания, которое, однако, не присуще правителям. Это право принадлежит верховной власти – Богу или народу, – которая по своей природе сама препятствует его осуществлению. И которая, таким образом, должна предоставлять полномочие на реальную Власть.
Более или менее ясно, что уполномоченные сдерживаются нормами: поведение Власти определено божественной или общей волей.
Но эти уполномоченные – будут ли они с необходимостью преданными? Или они будут стремиться присвоить себе повелевание, которое осуществляют посредством представительства? Не забудут ли они вовсе цель, для которой были назначены, – общее благо – или условия, на которых они подчинились, – исполнение Божественного или народного закона[67] – и не узурпируют ли они в конце концов суверенитет?
Так что в результате они будут выдавать себя за личности, выражающие божественную либо общую волю, как, например, Людовик XIV, присваивающий себе права Бога, или Наполеон, присваивающий себе права народа[68].
Как этому помешать, если не посредством контроля суверена над Властью? Но природа суверена не позволяет ему не только управлять, но и контролировать. Отсюда идея такого организма, который, представляя суверена, следит за действующей Властью, уточняет при случае нормы, по которым та должна действовать, и, если необходимо, объявляет о лишении ее прав и принимает меры по ее замещению.
В системе божественного суверенитета таким организмом неизбежно была церковь[69]. В системе народного суверенитета это будет парламент.
Следовательно, осуществление суверенитета оказывается конкретно разделенным, он обнаруживает дуализм человеческой Власти. Власть светская и Власть духовная в мирской области либо исполнительная и законодательная. Вся метафизика суверенитета ведет к этому разделению и не может его допустить. Эмпирики могут найти здесь защиту свобод. Но это должно вызывать возмущение у всякого, кто верит в суверенитет единый и неделимый по существу. Как так – он, оказывается, поделен между двумя категориями действующих сил! Две воли сталкиваются лицом к лицу, но сразу обе не могут быть волей божественной или народной. Необходимо, чтобы подлинным отражением суверена была одна из двух; значит, противная воля является мятежной и должна быть подчинена. Эти следствия логичны, если в воле, которая должна быть повинующейся, присутствует принцип Власти.
Значит необходимо, чтобы суверенитет был захвачен каким-то одним организмом. На исходе Средних веков это была монархия.
В Новое время это исполнительная или законодательная власть, в наибольшей степени связанная с народным суверенитетом[70], – когда глава исполнительной власти выбран непосредственно народом, как Луи Наполеон, как Рузвельт; при парламенте, наоборот, как в Третьей республике во Франции*, глава исполнительной власти в наибольшей степени отдален от источника права.
Так что те, кто контролируют Власть, либо оказываются в конечном итоге устранены, либо, как представители суверена, подчиняют себе действующие силы и присваивают себе суверенитет.
Замечательно в этом отношении, что, умаляя, как только можно, власть правителей, Руссо питал необычайное недоверие к «представителям», которых в его время так ценили, за то, что они постоянно приводили Власть к исполнению своего долга.
«Средство предотвратить узурпацию правления» он видит только в периодических собраниях народа, на которых оценивается, как использовалась власть, и решается, не следует ли заменить форму правления и тех, кто его осуществляет.
Руссо не заблуждался, он понимал, что данный способ действий неприемлем. В упорстве, с которым он его предлагал, следует видеть доказательство его категорического неприятия метода контроля, который действовал в Англии и который Монтескьё превознес до небес, – контроля со стороны парламента. Руссо восстает против этой системы с какой-то яростью. Она ему явно ненавистна: «Суверенитет не может быть представляемым… Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями… Понятие о представителях принадлежит новым временам; оно досталось нам от феодального правления, от этого вида правления, несправедливого и нелепого, при котором род человеческий пришел в упадок, а звание человека было опозорено»[71].
Он нападает на представительную систему страны, которую Монтескьё считал образцом совершенства: «Английский народ считает себя свободным; он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов парламента; как только они выбраны – он раб, он ничто. Судя по этому применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновения обладания ею, он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился»[72].
Почему же столь гневно?[73] Потому что Руссо понял: после того как суверенитет сделался таким великим, стоит лишь признать, что суверен может быть представленным, и уже нельзя помешать представителю присвоить себе этот суверенитет. И в самом деле, всякая тираническая власть, с тех пор возникавшая, оправдывала свою несправедливость в отношении личных прав претензией на присвоение себе представительства народа.
Особо отметим – Руссо предвидел то, что, кажется, ускользнуло от Монтескьё: что сила парламента, растущая в данный момент в ущерб исполнительной власти и, следовательно, ограничивающая Власть, в конце концов подчинит себе исполнительную власть, сольется с нею и создаст такую Власть, которая сможет претендовать на суверенитет.
Теории суверенитета, рассматриваемые с точки зрения их результатов
Если теперь мы бросим общий взгляд на рассмотренные выше теории, то заметим, что все они имеют целью заставить подданных повиноваться, и показывают, что за Властью стоит некий трансцендентный принцип, – Бог или народ, наделенный абсолютным правом. Все они также имеют целью действительно подчинить Власть указанному принципу. Следовательно, эти теории являются вдвойне дисциплинарными, имея в виду дисциплину подданного и дисциплину власти.
В качестве меры по дисциплинированию подданного они предлагают усиление фактической Власти. Но, строго обуздывая эту Власть, они уравновешивают ее усиление… при условии, что им удается практически осуществить упомянутую подчиненность Власти. В этом загвоздка.
Средства, используемые на практике для того, чтобы держать Власть в узде, получают тем большее значение, что суверенное право, которое она отваживается себе присвоить, понимается как самое неограниченное и, следовательно, заключает в себе больше опасности для общества, если захватывается Властью.
Но суверен не способен выступать in toto*, чтобы заставлять правителей выполнять свой долг. Значит, ему нужен некий контролирующий орган; а этот последний, занимая место рядом с правительством или над ним, будет стараться захватить и объединить в себе оба качества – правителя и надсмотрщика, что практически облечет его неограниченным правом повелевания.
Следовательно, не будут лишними никакие меры предосторожности, иначе то, что ведет к разъединению Власти и ее контролера – разделение прерогатив или быстрая сменяемость должностных лиц, – становится причиной слабости в управлении социальными интересами и беспорядка в обществе. Слабость и беспорядок, в конце концов невыносимые, естественно, становятся причиной объединения частей суверенитета в единое целое, и тогда Власть оказывается наделена деспотическим правом.
И притом деспотизм будет тем сильнее, чем шире будет пониматься право суверенитета, в то время как полагали, что он защищен от любого захвата.
Если никоим образом не допускается, что законы общества могут быть изменены, то деспот будет поддерживаться всеми ими. Если же допускается, что в этих законах есть некая неизменная часть, которая соответствует божественным установлениям, то она во всяком случае будет незыблемой.
Здесь неясно угадывается, что из народного суверенитета может выйти деспотизм более основательный, чем из суверенитета божественного. Ведь тиран – будь то индивидуум или коллектив, – сумевший, предположим, захватить тот или иной суверенитет, не смог бы, приказывая невесть что, ссылаться на божественную волю, которая представляется в виде вечного Закона. Общая воля, напротив, не является незыблемой по природе, но изменчива. Поскольку она не предопределена Законом, ее можно заставить говорить в последовательно меняющихся законах. В таком случае у узурпаторской Власти развязаны руки и она является более свободной, а свобода Власти называется произволом.
31
Burlamaqui. Principes de Droit politique. Amsterdam, 1751, t. I, p. 43.
32
Мы имеем в виду, что она не была суверенной в современном смысле слова. Средневековый суверенитет был не чем иным, как всего лишь превосходством (от просторечного латинского superanum). Это качество, которым обладает власть, находящаяся выше всех других, над которой в данное время нет вышестоящей власти. Но из того, что право суверена – самое высокое, совершенно не следует, что оно имеет какую-то иную природу, чем права, над которыми оно возвышается: оно их не уничтожает и оно не считается их источником или автором. Когда мы описываем здесь характер суверенной власти, мы ссылаемся на современную концепцию суверенитета, которая расцвела в XVII в.
33
В объемном труде братьев Р. У. и А. Дж. Карлайл, посвященном политическим идеям Средних веков (A History of Political Mediaeval Theory in the West, 6 vol. London, 1903–1936), мы находим сотни раз повторенной эту идею, доказанную общим ходом их исследований, – что монарх понимался средневековыми мыслителями и обычно считался стоящим ниже закона, как подчиненный ему и неспособный его изменять своей властью. Закон есть для него нечто данное и, по правде говоря, закон и есть подлинный суверен.
34
Цит. по: Marc Bloch. Les Rois thaumaturques, p. 351*.
35
Louis XIV. Œeuvres, t. II, p. 317.
36
Le jour des Rameaux, 1662.
37
См.: Послание к римлянам, XIII, 1. Комментарии см.: Carlyle. Op. cit., t. I, p. 89–98.
38
Св. Георгий. Regula Pastoralis, III, 4.
39
См. особенно сочинение Гинкамара Реймского (Hincmar de Reims) «De Fide Carolo Rege Servanda», XXIII.
40
Epist., CVI P.L., t. CLXII, col. 121.
41
См. замечательный очерк Ноэля Валуа о Жане Жодене и Марсилии Падуанском в «Histoire littéraire de la France», t. XXIV, p. 575 sq.
42
«Демократическая теория Марсилия Падуанского привела к провозглашению всемогущества императора», – говорит Ноэль Валуа (Op. cit., p. 614).
43
«Без Лютера нет Людовика XIV», – справедливо говорит Фиггис: J. N. Figgis. Studies of political thought from Gerson to Grotius, 2-d ed. Cambridge, 1923, p. 62.
44
Так, в Париже в 1610 г. сжигают «De Rege et Regis Institutione» Марианы и «Tractatus de Potestate Summi Pontificis in temporalibus» Беллармина; а в 1614 г. – «Defensio Fidei» Суареса. То же самое в Лондоне.
45
Vittoria. De Indis, I, 7.
46
«Природа человека предполагает, что он является социальным и политическим животным, живущим в сообществе», – сказал св. Фома (De Regimine Principum, I, 1).
47
См.: Suarez. De Legibus ac Deo Legislatore, lib. III, cap. I, II, III, IV. – «Сумма» en 2 vol., p. 634–635.
48
Беллармин. De Laicis, lib. III.
49
Bellarmin. Réponse à Jacques Ier d’Angleterre (Œuvres, t. XII, p. 184 et suiv.).
50
Suarez. De Opere, LV, cap. VII, n. 3, t. III, p. 414.
51
Новаторство Руссо состояло лишь в том, что он разделил данный первоначальный акт на последовательные два акта. Посредством первого будет формироваться гражданское общество, посредством второго оно будет назначать правительство. Что в принципе увеличивает подчиненность Власти. Но по сути это лишь дальнейшее развитие иезуитской мысли.
52
Спиноза. Богословско-политический трактат, XVI***.
53
Th. Huxley. Natural and Political Rights. – Method and Results. London, 1893.
54
Гоббс. Левиафан, гл. XVII, «De causa generatione et definitione civitatis»*.
55
Гоббс. Левиафан, ч. II, гл. XVIII**. Это основное положение Гоббса, и он повторяет его в разных формах. Говоря о конкретном действии суверена – представителя народа по отношению к индивидууму: «…все, что бы верховный представитель ни сделал по отношению к подданному и под каким бы то ни было предлогом, не может считаться несправедливостью или ущербом, так как каждый подданный является виновником каждого акта, совершаемого сувереном» (там же, гл. XXI)***. Говоря о законе: «…никакой закон не может быть несправедливым. Закон издается верховной властью, а все, что делается этой властью, признается [заранее] каждым из людей, а то, что соответствует воле всякого отдельного человека, никто не может считать несправедливым» (там же, гл. XXX)****.
56
Спиноза. Богословско-политический трактат, гл. XVI, «Об основаниях государства»**.
57
Там же***.
58
Св. Августин. Комментарий на Послание к римлянам.
59
Об общественном договоре, кн. I, гл. VI**.
60
Левиафан, ч. II, гл. XVIII*.
61
Это является менее шокирующим. Но, как заметил Гоббс до Монтескьё и Бенжамена Констана, из этого совершенно не следует, что личная свобода должна быть больше. «Та свобода, о которой часто и с таким уважением говорится в исторических и философских работах древних греков и римлян и в сочинениях и рассуждениях тех, кто позаимствовал у них политические познания, вовсе не есть свобода частных лиц, но свобода коллектива… Афиняне и римляне были свободны, т. е. их государства были свободными; это не значит, что частные лица могли оказывать сопротивление своим представителям, но что их представители имели свободу оказывать сопротивление другим народам или завоевывать их. На башнях города Лука еще и в наши дни можно прочитать написанное большими буквами слово LIBERTAS; тем не менее никто не может из этого заключить, что частное лицо обладает здесь большей свободой или бóльшими привилегиями в отношении службы государству, чем в Константинополе. Свобода одинакова как в монархическом, так и в демократическом государстве» (Левиафан, ч. II, гл. XXI)*. Гоббс хочет сказать, что подданный всегда свободен, как частное лицо, лишь в отношении тех вещей, которые ему позволяет суверен, и протяженность этих вещей не зависит от формы правления.
62
См.: Bossuet. Cinquième avertissement aux protestants.
63
Об общественном договоре, кн. III, гл. III.
64
«Между тем, для того, чтобы правительственный организм получил собственное существование, жил действительной жизнью, отличающей его от организма государства, чтобы все его члены могли действовать согласно и в соответствии с той целью, для которой он был учрежден, он должен обладать отдельным я, чувствительностью, общей всем его членам, силой, собственной волей, направленной к его сохранению. Это отдельное существование предполагает ассамблеи, советы, право обсуждать дела и принимать решения, всякого рода права, звания, привилегии, принадлежащие исключительно государю» (Об общественном договоре, кн. III, гл. I.)*.
65
Кн. III, гл. X.
66
Там же**.
67
Никогда не нужно забывать, что, оставляя народу исключительное право создавать закон, Руссо при этом имеет в виду весьма общие предписания, а не все те определенные частные положения, которые современное конституционное право охватывает под именем законодательства.
68
Он всегда старался обосновать свой авторитет на суверенитете народа. Как, например, в этом заявлении: «Революция завершена; ее принципы закреплены в моей личности. Настоящее правительство является представителем суверенного народа; а против суверена не может быть революции». И Моле замечает: «С губ или с пера этого человека не слетело ни одного слова, которое не несло бы одного и того же смысла, которое не было бы привязано к одной и той же системе, которое не имело бы в виду одной и той же цели – отобразить принцип народного суверенитета, который он считал самым ложным и самым пагубным по своим последствиям…» (Mathieu Molé. Souvenirs d’un Témoin. Genève, 1943, p. 222).
69
Мне нет нужды говорить, будто церковь в средневековом обществе была единственным органом, контролирующим и сдерживающим Власть. Мы не описываем здесь факты, мы анализируем теории.
70
«Всякий раз, – замечает Сисмонди, – как признается, что любая власть происходит от народа посредством выборов, те, кто имеют свою власть от народа наиболее непосредственным образом, – те, у кого наиболее многочисленные избиратели, – должны также верить, что их власть более законна» (Sismondi. Études sur les Constitutions des Peuples modernes. Paris, 1836, p. 305).
71
Об общественном договоре, кн. III, гл. XV**.
72
Там же.
73
У Канта мы находим такое же недоверие к «представителям»: «Народ, – пишет философ, – который представлен своими депутатами в парламенте, находит в лице этих поручителей своей свободы и своих прав людей, явно заинтересованных в своем собственном положении и в положении членов своих семей в армии, во флоте, в гражданских ведомствах, которое полностью зависит от министров; эти люди, вместо сопротивления притязаниям властей, всегда скорее готовы сами захватить правительство» (Kant. Métaphysique des Mœurs, trad. Barni. Paris, 1853, p. 179)*.