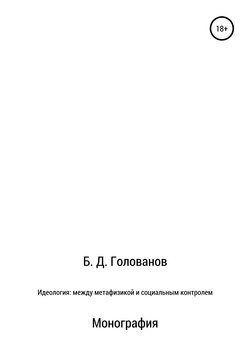Читать книгу Идеология: между метафизикой и социальным контролем - Борис Дмитриевич Голованов - Страница 5
Часть 1. От метафизики к идеологии
1.2. Идеология как рациональный итог Французского Просвещения
1.2.2. Общая воля как принцип и источник ментальной идентичности
ОглавлениеФормулируя важнейшие положения новой науки, де Траси обращается к картезианскому принципу интеллектуального субъективизма – «Cogito ergo sum». Оригинальность новой версии картезианства заключалась в том, что она была пропитана духом французского сенсуализма, основополагающий принцип которого гласил: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было в чувствах». Интеллектуальный субъективизм Декарта был преобразован в чувственный и его основное кредо было сформулировано следующим образом: «С той минуты, как мы чувствуем, – мы существуем, мы сознаем наше существование»[28]. Чувственная составляющая процесса познания давала весомый аргумент для установления социального равенства. Поскольку с точки зрения физиологии все люди имеют одинаковые сенсорные способности и одинаковые потребности, то равенство – это естественное состояние людей.
Важнейшей задачей идеологии стало достижение ясного восприятия мира. На этом пути идеологи воспользовались результатами философских исследований Э. Кондильяка. Этот выдающийся представитель Французского Просвещения одним из первых обратил внимание на то, что не все события нашей психической жизни происходят осознанно, что многие наши восприятия находятся за границами нашего индивидуального сознания. «Каждое мгновение, – писал он, – приносит нам ощущения, которые мы не в состоянии заметить и которые, определяя без нашего ведома наши движения, заботятся о нашем самосохранении»[29]. Во многих случаях, например, при чтении книг мы концентрируемся на идеях, но при этом начинаем упускать из виду слова и буквы. Главная трудность бессознательного восприятия внешних воздействий заключается в том, что мы можем думать, что обладаем ясностью чувств, тогда как в действительности «мы можем обманываться, либо замечая не все, что в нас происходит, либо предполагая то, чего в нас нет, либо искажая то, что в нас есть»[30]. Существует огромное количество причин, влияющих на наше поведение, но поскольку они входят в наши повседневные привычки, мы их просто не замечаем. Мы уверены, «что они не участвуют в том, что определяет наше поведение, и принимаем иллюзию за очевидность»[31].
Предвосхищая идеи современного психоанализа, Э. Кондильяк исследует процесс вытеснения травмирующих психологических мотивов. Он утверждает: «Мы приписываем нашим действиям побудительные причины, которые на самом деле вовсе не вызывали этих действий, лишь потому, что хотим скрыть от себя те причины, которые в действительности их вызывают; и в момент, когда мы вовсе не пользуемся никакой свободой, мы верим в то, что мы свободны, лишь потому, что наше положение не позволяет нам ни заметить, сколь невелико участие нашего выбора в наших движениях, ни ощутить силу причин, насильственно нас побуждающих»[32].
Наша бессознательность в восприятии реальности компенсируется нашим воображением. Не зная истинных причин своих страстей, «мы воображаем такие причины, которые не имеют отношения к нашим действиям или имеют косвенное отношение»[33]. Раскованность воображения чревата появлением призраков, от которых предостерегал исследователей Ф. Бэкон и которые он пытался устранить с помощью метода, привязывающего человеческий ум к эмпирическому опыту.
Э. Кондильяк понимает: чтобы освободить человеческий ум от побочных продуктов воображения и страстей, недостаточно оставаться в пределах самого разума, необходимо выявить импульсы его развития в иных слоях душевной жизни. Для этого необходимо изменить приоритеты и рассмотреть появление человеческих идей из чувств и желаний. Французский философ подвергает критике учение Платона о познании как анамнезисе (припоминании). Для него неприемлем принцип неравенства возможностей в духовном развитии людей. Воспитание и обучение ничего не добавляют, они лишь выявляют то, что потенциально присутствует.
Переосмыслению подвергается социально-мифологическое содержание платоновского учения, согласно которому социальное положение человека зависит от познавательных способностей души, данных человеку от рождения. «Единственное преимущество, которое дается при рождении, – возражает Э. Кондильяк, – это лучше предрасположенные органы; тот, чьи органы получают более яркие и разнообразные впечатления и легко приобретают привычки, становится в соответствии с родом своих привычек поэтом, оратором, философом и т. п., в то время как другие остаются такими, какими создала их природа»[34]. Идея равенства всех людей от рождения и идея безусловного развития способностей каждого человека не могли не импонировать французским идеологам, большинство из которых были горячими сторонниками Революции и ее непосредственными участниками.
Французская идеология развертывает свое содержание в пространстве трех метафизических координат: рефлексии, ощущения и действия. В традиции сенсуализма она делает ощущение принципом организации всего человеческого мышления, которое рассматривается как модификация и комбинация первоначальных ощущений. Трактуя ощущения и восприятия как исходные элементы, идеология соединяет их с практическим опытом. Соединение исходных элементов познания и практики открывает возможность объяснить единство внутреннего (духовного) и внешнего опыта.
Полагая восприятие-жизненное действие отправной точкой познания, новое учение не может обойти проблему, которая всегда стояла перед теорией познания сенсуализма: каким образом все многообразие чувственных восприятий приводится к единству и какого типа единство делает данного индивида воспринимающим самого себя. Со времен древних греков понятием, обеспечивающим такое единство, было понятие души. Изъятие понятия души из категориального словаря идеологии означало разрыв с традиционными представлениями о простой бессмертной субстанции, которая создавала основу для всего разнообразия восприятий и опыта. Исчезновение понятия души из арсенала новой науки было неизбежным в силу непримиримости революционных устремлений ее основателей с религиозной догматикой.
Большинство философских систем XVIII века претерпели серьезные изменения, исключив понятие души из своего арсенала. Одной из крайних точек зрения в решении указанной проблемы был агностицизм Юма, который определил душу как связь восприятий; другую точку зрения представляли учения Руссо, Бюффона, Бонета, которые пытались сохранить непрерывность и субстанциональность человеческого «Я». Эти философы, отрицая идею неизменной душевной субстанции, все-таки признавали необходимость фиксирующей точки сознания, вокруг которой центрируются разнообразные психические функции личности.
Де Траси был настроен на решительное устранение термина «душа» из словаря новой науки: множество чувственных восприятий-идей обрабатывается способностью суждения и образует деятельное единство в человеческой воле. Передача интегральной функции психической жизни человека воле, несомненно, отражает особенности исторической ситуации, в которой формировалась эта философская концепция. В революционные периоды человеческой истории тонкие движения человеческой натуры уходят на задний план, на авансцену выдвигаются бурные страсти, которые в состоянии обуздать только коллективная воля человеческого сообщества.
Внимание к волевым импульсам и выведение соответствующих понятий на уровень философских категорий обусловлено особенностями личной судьбы де Траси. Его карьера офицера революционной армии и политического деятеля не могла состояться без целенаправленного формирования воли и постоянного преодоления сопротивления окружающего мира. Именно в сознательном волевом порыве находит де Траси причину социальных трансформаций. Единство чувственных восприятий в свете волевого принципа переформулируется в единство воли и нацеливается на создание эффективных средств поддержания этого единства.
Невозможно правильно мыслить, игнорируя человеческую деятельность и вызываемые ею общественные изменения. Свою деятельностно-волевую установку де Траси выражает следующим образом: воля «руководит как движениями всех наших членов, так и действиями ума. Использование наших механических или умственных сил зависит от нашей воли; таким образом, только посредством воли мы воздействуем на внешний мир и обретаем власть над ним»[35].
Идеология как учение, объясняющее внутреннее строение человеческого ума, была созвучна естественно-научным представлениям о мире как бесконечном множестве атомов, постоянно находящихся в движении и постоянно взаимодействующих друг с другом. Отличие человеческих индивидов от атомов заключается в том, что первым присущи психические функции, такие как «чувственное восприятие, память, способность суждения и воля», тогда как атомы, находящиеся в постоянном движении, обладают тремя нераздельными и взаимосвязанными качествами: «подвижностью, инерцией и импульсом»[36].
В конечном итоге общественная жизнь предстает как отношение одной человеческой воли к другой, которые, взаимодействуя между собой, иногда помогают друг другу, иногда враждуют можду собой. Доброжелательность или недоброжелательность – это просто приспособленность или неприспособленность одной воли к другой. С позиций этого принципа находят объяснение все моральные добродетели и пороки; дружба и вражда, любовь и ненависть, черствость и сострадание могут быть рассмотрены как формы человеческого взаимодействия и согласования воль.
Как полагал Дестют де Траси, знание – это коллективный продукт человечества, невозможный без обмена идеями. Важнейшую роль в этом обмене играют знаки. «Очевидно, что именно знакам мы обязаны всеми нашими общественными отношениями и возможностью пользоваться всеми знаниями себе подобных»[37]. На роль знаков в познании обращали внимание предшественники французских идеологов – Дж. Локк и Э. Кондильяк, последний даже утверждал, что любая наука есть не что иное, как «хорошо сделанный язык». Идеологи переносят акцент с познавательной функции языка на деятельностно-коммуникативную и рассматривают знаки как средство формирования отношений между людьми. Гипотеза идеологов заключалась в том, чтобы через изменения в языке перестроить отношения между людьми.
Социально-преобразующая направленность нового учения обусловила внимание идеологов к такому механизму социальной жизни, как привычка. Целенаправленно формируемая привычка может либо усиливать, либо ослаблять индивидуальную способность суждения, память и даже волю. Формируя привычку, мы можем подчинять индивидуальное восприятие общественной норме: так, воспитание воинственных привычек может ослаблять естественное чувство страха. Чувства становятся привычными, если они культивируются с рождения. Конфликт происходит не между чувствами и разумом, а между теми суждениями, которые являются для человека более привычными, и теми суждениями, которые менее привычны. Публичное повторение каких-либо идей облегчает их восприятие индивидуальным сознанием, ибо постоянно повторяющиеся идеи включаются в психологический механизм привычного и выводятся из-под огня сознательной критики. Как только новые идеи проходят череду повторений, они все менее и менее отслеживаются индивидуальным сознанием и становятся содержанием его бессознательных реакций. Трудности осуществления революционной воли проистекают из-за укорененных в обществе привычек, которые мешают изменению индивидуального сознания и поведения.
Философия Просвещения, стимулируемая успехами естественных наук, дала новую интерпретацию «идеям», отличную от той, которую они получили в философии Платона. Древнегреческий философ полагал, что идеи являют нам подлинное, неизменное бытие, отличное от мира становления. Подлинное бытие, согласно Платону, умопостигаемо, т. е. познаваемо разумом, прошедшим трудную школу мыслительной дисциплины и философии. Французский материализм, давший импульс развитию идеологии, термином «идея» обозначал не только универсальные принципы познания и практической жизни, но и все возможные восприятия внешнего мира. И. Кант, критикуя такой уравнительный сенсуализм, призывает «…взять под защиту термин “идея” в его первоначальном значении, чтобы он не смешивался более с другими терминами, которыми, обыкновенно, без всякого разбора обозначают всевозможные виды представлений… Тому, кто привык к этому различению, невыносимо слышать, как представление красного цвета называют идеей. На самом деле это представление не есть даже notio (понятие рассудка)»[38].
Французские идеологи не видели различия между гносеологическими статусами идей и иных форм знания (восприятия, ощущения, представления и т. д.)[39]. Эта редукция духовного содержания познания связана с практической направленностью учения идеологов, провозглашавших равенство восприятий людей, независимо от их происхождения, образования и социального положения. И. Кант, в отличие от французских материалистов, развивавших свое учение как антагонистическую противоположность религии и метафизике, солидаризируется с Платоном и полагает, «что наша способность познания заключает в себе более высокую потребность, чем чтение явлений по складам согласно синтетическому единству в форме опыта»[40].
Идеи в философии Платона не сводятся к рекомбинации чувственных восприятий вещей, отношение идей к чувственному миру выражается прямо противоположным императивом: чувственный мир существует только в силу причастности к идеям. Смысл и содержание чувственных вещей раскрывается в полной мере, когда душа, охваченная идеей, начинает двигаться в занебесную область и приобщается к жизни бессмертных богов.
С точки зрения И. Канта, универсальные идеи выполняют особую роль, отличную от наглядных перцепций, они «служат только для восхождения в ряду условий вплоть до безусловного, т. е. до принципов»[41]. Эти идеи не могут быть непосредственно включены в методологию естественных наук, движение мысли в которых замкнуто между теоретическими формами и эмпирической реальностью. Если использовать всеобщую идею для нисхождения познания от теоретической формы к конкретным условиям, то она превращается в фикцию. Идея, теряющая свою высшую ценность и используемая в качестве средства, неизбежно порождает иллюзию, поскольку вопреки своему высшему предназначению вынуждена направлять человеческое сознание не в область божественного и бесконечного, а в область конечного и преходящего.
Революционная практика, стремящаяся опираться на науку, решительно отбросила традиционные формы осмысления общественной жизни, такие как религия, теология, метафизика. В освободившемся пространстве начала формироваться новая форма духовно-практического освоения действительности, возможности которой разворачивались на волне успехов естествознания и промышленной революции. Последовательно устраняя религиозные представления из сферы познания, французские идеологи отказываются от понятия души как бессмертной субстанции, обеспечивающей единство разнообразных восприятий и личного опыта. Интегрирует многообразие чувственных восприятий индивида его воля, которую французские идеологи рассматривают как осознанное следование желаниям. Социальный мир им представляется как взаимодействие индивидуальных воль, стремящихся к самоутверждению. Это взаимодействие воль в конечном итоге формирует коллективную волю, которая создает государство и движет историю.
Методологические усилия идеологов не смогли вывести идеологию за пределы традиционной метафизической формы, что определило дальнейший распад этого социально-философского течения на множество исследовательских программ, имевших правовую, педагогическую, лингвистическую и политическую направленность. Однако общая установка французских идеологов на научное познание и освоение духовно-практических явлений до сих пор задает горизонт интеллектуальной и социально-политической жизни.
28
Дестют-Траси. Систематическое извлечение, вместо подробного оглавления // Кабанис П. Отношение между физическою и нравственною природою человека. Т. 1 – СПб., 1885. – С. 5.
29
Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3-х т. – М., 1982. – Т.3. – С. 30.
30
Там же. – С. 29.
31
Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3-х т. – М., 1982. – Т.3. – С. 29.
32
Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3-х т. – М., 1982. – Т.3. – С. 32.
33
Там же.
34
Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3-х т. – М., 1982. – Т.3. – С. 34.
35
Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова / Пер. с фр. Д. А. Ланина. – М.: Альма Матер, 2013 – С. 80.
36
Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова / Пер. с фр. Д. А. Ланина. – М.: Альма Матер, 2013 – С. 295.
37
Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова / Пер. с фр. Д. А. Ланина. – М.: Альма Матер, 2013 – С. 311.
38
Кант И. Критика чистого разума. – СПб., 1993. – С. 220–221.
39
Такое смешение познавательных форм не является исключительно прерогативой философии Нового времени, его корни восходят к античному переплетению двух греческих терминов «idea» и «eidos».
40
Кант И. Критика чистого разума. – СПб., 1993. – С. 218.
41
Кант И. Критика чистого разума. – СПб., 1993. – С. 228.