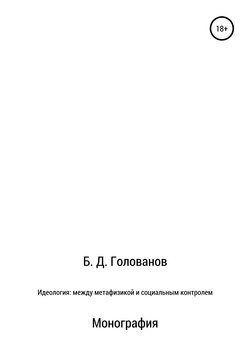Читать книгу Идеология: между метафизикой и социальным контролем - Борис Дмитриевич Голованов - Страница 8
Часть 1. От метафизики к идеологии
1.3. Иллюзорное сознание и философская рефлексия
1.3.2. Позитивное содержание трансцендентальной иллюзии
ОглавлениеВ «Критике чистого разума» И. Кант назвал диалектику «логикой иллюзий»[50]. Он обратил внимание на то, что существует «естественная и неизбежная диалектика чистого разума…, которая неотъемлемо присуща человеческому разуму, которая не перестанет обольщать его даже после того, как мы раскроем ее ложный блеск, и постоянно вводит его в заблуждения, которые необходимо все вновь и вновь устранять».[51] Эта диалектика проявляется на уровне рассудка как логическая иллюзия, последняя заключается в простом подражании формам разума при абсурдности самого содержания суждений. Эта иллюзия возникает при недостаточном внимании к логическим правилам и устраняется с обретением такого внимания.
Трансцендентальная иллюзия коренится в противоречивой природе человеческого разума, поскольку он, являясь субъективной человеческой способностью, свои собственные принципы постигает как объективные, внешние основоположения. «Это обстоятельство приводит к тому, – пишет И. Кант, – что субъективная необходимость соединения наших понятий, в интересах рассудка, принимается нами за объективную необходимость определения вещей в себе»[52]. В несколько ином виде природу трансцендентальной иллюзии обозначил И. Фихте. Он полагал, что хотя человек (Я) «является своей собственной целью», прийти к этому фундаментальному знанию он может не иначе как через познание внешнего мира. «… Я никогда не осознает самого себя и не может осознать иначе, как в своих эмпирических определениях, и что эти эмпирические определения непременно предполагают нечто вне Я»[53].
Отличие трансцендентальных иллюзий от логических заключается в том, что логическая иллюзия прекращается, если мы сумели в достаточной мере сосредоточить на ней свое внимание, тогда как трансцендентальная иллюзия «не прекращается даже и в том случае, если мы уже вскрыли ее и отчетливо усматриваем ее ничтожество с помощью трансцендентальной критики»[54].
Кант рассматривает еще одну разновидность иллюзий – практическую, коренящуюся в человеческой повседневности. Суть этой иллюзии заключается в смешении обладания вещью и ее использования для удовлетворения какой-либо потребности. Так, скупец безудержно накапливает богатства лишь в надежде когда-нибудь ими воспользоваться. Скупец считает иллюзорную возможность воспользоваться своими богатствами вполне достаточным «возмещением» того, что он ими никогда не воспользуется. В данном случае в наличии – только сознание возможности достижения цели, но оно становится тождественным реальному достижению цели. Даже безумие, полагает И. Кант, представляет собой разновидность практической иллюзии, «так как оно принимает простое представление (способности воображения) за присутствие вещи и привыкает именно так его и оценивать»[55].
Раскрывая природу иллюзорного сознания, классическая немецкая философия выявляла претензии на собственное видение человеческой природы. Христианская теология и во многом следовавшая ей в этом вопросе европейская наука рассматривали проблему иллюзорности человеческого мышления прежде всего в негативном плане, как свидетельство ущербности мышления. Христианство относилось к иллюзии как к демонической силе, уводящей от познания Бога, а ее корни видело в греховности, присущей каждому человеку в отдельности и человеческому роду в целом.
Немецкая классическая философия склоняется к тому, что отношение конечного мира к миру бесконечного духа представляет тайну для человеческого понимания. Эта тайна не может быть раскрыта на пути эмпирического познания, поскольку наука, опирающаяся на чувственный опыт, принципиально не может быть завершена. Прогресс научного познания позволяет описывать явления, образующие объективный мир, более подробно и более точно, чем когда-либо, однако возникновение конечного мира из бесконечности недоступно рациональному пониманию. Между бытием Абсолюта и результатами человеческого познания всегда будет некий зазор, который до конца не может быть заполнен эмпирической наукой. Чтобы заполнить этот зазор, человеческое познание должно допустить факт, недоступный нашему опыту и не ведущий ни к какой дальнейшей дедукции. Понятие трансцендентальной иллюзии указывает на этот принципиальный пробел в нашем познании. С точки зрения европейской науки иллюзия трактуется как недостаток познания, в лучшем случае – как неизбежное зло, с которым наука вынуждена мириться в определенных ситуациях.
Допущение «фактов», недоступных нашему опыту, ставит вопрос о метафизике, исследующей такое допущение с точки зрения чистого разума. Только такая философская дисциплина может дать ответ на вопрос о высшей сущности и бытии трансцендентного. Исследуя возможности построения метафизики, опирающейся на принципы разума, И. Кант приходит к выводам, проясняющим природу разума и самого человека. Для нашего исследования принципиальное значение имеет диалектика спекулятивного и практического разума, во многом определившая появление идеологии как варианта политической метафизики.
Важнейшей задачей своих философских исследований И. Кант считал нахождение априорных принципов двух способностей души: познавательной способности и способности желания. Именно эти принципы могут дать прочное основание для систематического развертывания теоретического и практического применения разума.[56] Развертывание теоретического разума начинается с установления оснований способности суждения, развертывание практического разума – с прояснения оснований воли, соединяющей субъективное желание и реальность. Если в познавательной способности субъективный образ вынужден соответствовать реальности, то практически разум, опирающийся на волю, предполагает приведение реальности в соответствие с внутренними образами.
Рассматривая практическое применение разума, мы имеем дело с волей и должны ее рассматривать как эмпирически необусловленную причинность, которая действует наряду с внешней причинностью, то есть волю понимаем прежде всего как свободную волю и выясняем основоположения именно свободной воли. Свобода воли раскрывает нам смысл практического разума и его связь с логикой чистого разума. Именно спекулятивный разум открывает для воли возможность стать тем, чем она является по своей сути, а именно: свободной волей, возвышающейся над механизмом желаний.
Рассматривая трансцендентальную иллюзию, И. Кант возвращается к проблеме понимания природы человеческого сознания. Эта проблема зафиксирована в философских учениях как Запада, так и Востока. Восточные учения рассматривают мир человеческих желаний как мир иллюзий, вращающих колесо сансары, и ставят проблему выхода за пределы «этого мира». В отличие от христианской теологии, восточные философии видят в иллюзии не только силу, скрывающую от человека истину, но еще и божественную потенцию, творящую мироздание. Российский историк и религиовед М. Альбедиль полагает, что в Древней Индии не было «подавляющей антиномии западного мышления: имманентное (природа) – трансцендентное (бог); она снимается в интегрирующих эту оппозицию понятиях, например Атмана и Брахмана. Вот почему применительно к Индии полезнее говорить о всеохватывающей идее некоего интегрального социоприродного жизненного состояния, которое воспринимается всеми априорно… Формирующей основой этой идеи, насколько можно судить по разным сохранившимся историческим источникам, было представление о таинственной сверхъестественной силе, некоей всепроникающей магической потенции, которая все наполняет собой и движет все и вся. Присутствуя во всех явлениях мира, эта сила, по-видимому, воспринимается иначе, чем сила природы; она безлична и универсальна»[57].
В школах восточной философии противостояние подлинного бытия и мира вещей разрешается с помощью доктрины майя. На вопрос о том, как Брахман (Единое) представляется в виде множества явлений человеческого мира, отвечает представление о майе, или божественной иллюзии. Мы можем сказать, что в индивидуальном человеческом восприятии единый Брахман представлен как чувственное многообразие вещей, развертывающееся во времени и пространстве. Мир многообразия – это аспект Брахмана, представляющий реальность для нас, но не для него самого. Конечный мир и Брахман – это разные уровни бытия и восприятия.
В одной из основных древнеиндийских философских школ – адвайте-веданте – доктрина майи раскрывается следующим образом. Ее истолкование исходит из того, что мир становления – мир многообразия предметов – возник в результате опосредования абсолютного бытия небытием. Небытие обнаруживается как утрата реальности. Категория «майя» используется в качестве названия для разделяющей силы и ограничивающего принципа. «Майя – это энергия Ишвары, его неотъемлемая сила, посредством которой он преобразует потенциальный мир в актуальный… Майя – это творческая сила вечного бога, и поэтому она вечна; посредством ее всевышний творит мир»[58]. Хотя божественное творческое начало (Ишвара) продуцирует небытие как ограничивающий принцип, но само начало никоим образом не подвержено влиянию этого принципа[59]. Майя достаточно реальна, чтобы произвести мир, и достаточно нереальна, чтобы служить пределом для Абсолюта (Брахмана). Майя в восточных философских учениях рассматривается как вечная сила бога, как ограничивающий предел, устанавливаемый самим Брахманом. В силу божественного происхождения она обладает двумя свойствами: авараной – сокрытием истины и викшепой – представлением истины в ложном свете. В последнем случае майя трактуется как положительное порождение ошибки. Находясь под влиянием майи, мы не только не воспринимаем Абсолют, но представляем вместо него нечто другое. Мир преходящих вещей скрывает от нас подлинное бытие. Поскольку майя по своему характеру обманчива, она именуется авидьей, или ложным сознанием. Однако это ложное сознание трактуется не как недостаток или отсутствие представления, а как положительная ошибка. Майя – это то, из чего возникают обусловленные формы сознания и объективного существования.
Освобождение от трансцендентальной иллюзии – это важнейший шаг, который может сделать человеческое сознание на пути преодоления майи. И сущность этого шага – в различении сознания и мышления, трансцендентного и посюстороннего. Мышление – как всеобщее качество человека, как инструмент выживания человека во внешнем мире – нацелено на сохранение человеческого существования; сознание – как движение души – представляет божественную природу человека. Последний шаг, который может сделать человек, двигаясь по пути познания, – обнаружить предел познания в своей собственной душе (атман). Как только этот предел достигнут, наступает освобождение от трансцендентальной иллюзии и майи.
50
Кант И. Критика чистого разума – СПб., 1993 – С. 208.
51
Там же. – С. 210–211.
52
Там же. – С. 210.
53
Фихте И. Г. Несколько лекций о назначении ученого. – Минск, 1998. – С.8.
54
Кант И. Критика чистого разума. – СПб., 1993. – С. 210.
55
Кант И. Религия в пределах только разума [Электронный ресурс] // https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kant/rel01.php (Дата обращения: 18.03.2019).
56
См. Кант И. Критика практического разума. Предисловие / Собрание сочинений в 8 т., Т. 4 [Электронный ресурс] // https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kant_pr/01.php (Дата обращения: 17.03.2020).
57
Альбедиль М. Ф. Индия: беспредельная мудрость. – М., 2003. – С. 23.
58
Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1993. – Т. 2. – С. 515.
59
Ср. с диалектикой истинного и ложного: «Ложное знание о чем-нибудь означает неравенство знания с его субстанцией. Однако именно это неравенство есть различение вообще, которое есть существенный момент. Из этого различия, конечно, возникает их равенство, и это возникающее равенство и есть истина… Однако на этом основании нельзя сказать, что ложное образует некоторый момент или даже составную часть истинного. В выражении: «во всякой лжи есть доля правды» то и другое подобно маслу и воде, которые, не смешиваясь, только внешне соединены. Именно поэтому, что важно обозначать момент совершенного инобытия, их выражения не должны больше употребляться там, где их инобытие снято. Так же как выражения: единство субъекта и объекта, конечного и бесконечного, бытия и мышления и т. д., – нескладны потому, что объект и субъект и т. д. означают то, что представляют они собой вне своего единства, и, следовательно, в единстве под ними подразумевается не то, что говорится в их выражении, – точно так же ложное составляет момент истины уже не в качестве ложного». – Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 20–21.