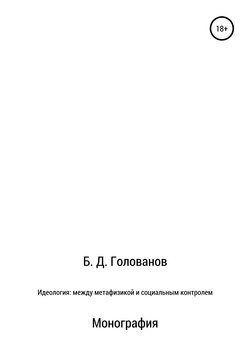Читать книгу Идеология: между метафизикой и социальным контролем - Борис Дмитриевич Голованов - Страница 7
Часть 1. От метафизики к идеологии
1.3. Иллюзорное сознание и философская рефлексия
1.3.1. Иллюзорное сознание и знание
ОглавлениеНаиболее просто определить знание как сторону отношения сознания и нечто. В понятии знания сознание отличает себя от нечто и в то же время с ним соотносится. Как писал Г. В. Ф. Гегель: «…бытие «нечто» (von Etwas) для некоторого сознания есть знание».[42] Первое, что осознает субъект научного познания, что нечто обладает бытием и вне соотношения со знанием, эта сторона бытия «в-себе» определяется как объективная истина.
Научно постигая истину, мы, прежде всего, должны понять ее как объективную истину, но поскольку эта объективность не может обнаружиться вне нашей деятельности, вне активности нашего сознания, то она есть не только «вещь в себе», но и «для нас». Самостоятельность познающего сознания выражается как противостояние человеческой субъективности объективному ходу вещей, в сознании присутствует то, что его отличает от объективной истины, – момент не-истины, иллюзорности. Даже в самых простых проявлениях субъекта познания, таких как ощущение и восприятие, иллюзия не отделена от реального знания. Наука, берущая свой предмет только в форме вещи, характеризует иллюзию как фундаментальное препятствие, с которым сталкивается субъект познания. Она трактует иллюзию исключительно как негативный результат, к которому приходит субъект, упустивший истину.
Однако, как справедливо отмечал Г. В. Ф. Гегель, «изображение неподлинного сознания в его неистинности не есть только негативное движение»[43]. Наука, постигающая мир вещей, должна понять, что в иллюзии ей противостоит не абстрактное отрицание истины, а отрицание определенного реального содержания. Сознание, сосредоточенное на моменте инерции, находящем свое концентрированное выражение в вещи, отождествляет иллюзию с абсолютным небытием и принимает его за абсолютно отрицательный результат познавательных усилий. Г. В. Ф. Гегель пишет: «Но только “ничто”, понимаемое как “ничто” того, из чего оно возникает, на деле есть подлинный результат, оно само, следовательно, есть некоторый определенный результат, и у него есть некоторое содержание»[44]. Последовательно научный метод не останавливается на голом отрицании, которым довольствуется гносеология скептицизма, он схватывает процесс познания как целое, которое, помимо энергии отрицания, включает в себя понятие того, из чего вырастает это отрицание. Иллюзия как отрицательный результат познания выступает не как абстрактное отрицание истины, но как ступень уже пройденного пути к истине, включенная в содержание целого.
Выявление позитивных моментов иллюзорного сознания в процессе последовательного проведения феноменологической редукции обнаруживает духовные предпосылки идеологии как новой модальности общественной жизни. Появление идеологии в процессе развития научной рефлексии можно рассматривать как этап созревания самой науки, обнаружившей сущностное различие общественных и природных явлений. Чтобы уяснить позитивное содержание иллюзорного сознания, необходимо выйти за пределы вещной установки в научном познании и понять иллюзию как необходимый момент становления субъекта научного познания. Феномен идеологии демонстрирует нам позитивное содержание человеческих иллюзий, которое заключается в полагании социального идеала, выводящего индивидуальные сознания за пределы закостеневшей социальной реальности.
Философское исследование идеологии не может ограничиться общим определением идеологии как иллюзорного сознания, так же как культурологический ее анализ не может остановиться на констатации готовых идеологем, а политологический – на фиксировании пропагандистских мероприятий. Чрезвычайно важно понять, как из практической деятельности вырастают, а затем сознательно культивируются схемы идеологического мышления. Каким образом они становятся препятствием на пути познания истины? И на каком этапе становления научного познания «дороги» науки и идеологии расходятся и всегда ли это расхождение можно трактовать как изъян в развитии человеческого духа?
Идеология, если понимать ее как определенный этап становления научного знания, указывает на изменения процесса познания, произошедшие в Новое время. Если в древности (Греция, Рим) работа человеческого духа состояла в том, «чтобы извлечь индивида из непосредственно чувственного способа и возвести его в мысленную субстанцию»[45], то работа, проделанная человеческим духом к концу XVIII – началу XIX веков, дала возможность индивидам за несколько лет осваивать то, на что ученые древности тратили целую жизнь. Идея общественного прогресса, ставшая знаменем Французской революции, опиралась на прогресс интеллектуальных возможностей человека и кумулятивный эффект в накоплении знания. Насущной задачей духовного развития в эпоху Французской революции стало преодоления косности мышления, сложившегося в лоне теологии и метафизики, и претворение в жизнь достижений научного познания как в сфере технологической организации производства, так и в сфере экономики и политики.
Однако, как показал опыт той же Французской революции, гораздо легче привести в движение чувственное наличное бытие и обрести опыт изменения внешней действительности, нежели осознать систему сложившихся представлений, преодолеть ее инерцию и привести сами представления в движение. Министр иностранных дел Наполеона Тайлеран сознавал трудность этой задачи, когда объяснял своему Императору: «Сир, штыками можно начать что угодно, у них единственный недостаток – на них нельзя сесть». С помощью военной силы достаточно легко дезорганизовать материальную сторону общественной жизни, но невозможно изменить образ мышления людей и создать устойчивую духовную основу нового порядка. Изменения внешней действительности, не сопровождающиеся изменением представлений людей о сути происходящих событий, непрочны и сходят на нет, как только перестают поддерживаться силой принуждения[46].
Изменение мыслительных представлений – процесс чрезвычайно болезненный для личности, поскольку представления являются результатом освоения жизненных ситуаций и для индивида обладают силой внутреннего закона, индивидуального табу. Эти изменения касаются гораздо более тонкой реальности, нежели действия, направленные на преобразование мира вещей. Внутренние изменения могут быть результатом внешней активности индивидов, но вызванная таким образом смена представлений по своему содержанию случайна и непредсказуема. Опыт Французской революции показал, насколько разрушительной является социальная активность тех, кто не до конца осознал последствия и смысл собственных действий. Изучение внутреннего мира человека обнаружило, что ключевая проблема – не в том, чтобы сообщить индивиду новое знание об общественном устройстве, а в том, чтобы уже имеющуюся у него систему представлений сделать текучей и подвижной, – такой, чтобы ее можно было преобразовать в соответствии с новым знанием. В каждый период революционных преобразований становилось очевидным, что существующая система представлений вступала в противоречие как с динамикой социальных изменений, так и с задачами развития самого научного знания. Общепринятая система представлений, сложившаяся в условиях господства религии и теологии, противостояла основному принципу научного познания – принципу индивидуальной (опытной) убежденности в истинности достигнутых знаний.
Возникновение новоевропейской науки справедливо связывают с развитием знания, основанного не на авторитете, а на личной убежденности познающего. Наука полагает, что следовать самостоятельно найденным убеждениям лучше и надежнее, чем полагаться на чужое мнение. Основополагающий принцип научного познания – «все подвергай сомнению» – из сферы «чистой науки» был перенесен в сферу духовно-практическую: критике была подвергнута существующая система образования, как наличное бытие идей. На каждом новом этапе своего развития научное познание сталкивалось с «застывшими», социально «узаконенными» результатами, полученными на предыдущих этапах развития; чтобы двинуться дальше, необходимо было критически переосмыслить систему категорий и представлений, задававших определенное конкретно-историческое видение мира.
Первым, кто наметил путь решения указанной проблемы, был Г. В. Ф. Гегель. Необходимо было не только нащупать вслед за И. Кантом границы научного разума, но и раскрыть динамику его развития в пространстве культуры. В гегелевской «Феноменологии духа» эта динамика раскрывается через диалектику субстанции и субъекта. Эта диалектика обнаруживает способы, с помощью которых индивидуальное сознание приводит в движение (делает текучим) систему устоявшихся общественных представлений, навязанных индивиду в процессе воспитания и обучения. Особенно обстоятельно была исследована фаза духовного развития, связанная с процессом развертывания вещных (реифицированных) форм сознания.
Вещное сознание зиждется на опыте, который говорит о том, что вещь – это и есть истинный предмет научного познания, тогда как человеческая субъективность – это то, что должно пассивно принять мир вещей и не проявлять никакой активности, ибо эта активность искажает истину. Поскольку «предмет есть истинное и всеобщее, самому себе равное, сознание же есть для себя изменчивое и несущественное, то с ним может случиться, что оно неправильно постигнет предмет и впадет в иллюзию»[47]. Сознание, обращенное к познанию Я и пытающееся уяснить свою собственную природу, порождает иллюзии, которые искажают сущность вещей. Оно само является видимостью, которая несущественна для постижения мира вещей.
С другой стороны, эпистемология, основанная на опыте классического естествознания, рассматривает несоответствие содержания мысли и предмета не как неистинность вещи как таковой, а как неправильность способов восприятия вещи, которые нужно исправить. Стремление к истине, определяемой как соответствие мысли вещи, ведет к тому, что мысль становится неотличимой от вещи, в отношении мышления становятся применимы способы манипулирования, допускамые по отношению к вещам. Вещное сознание упускает вторую сторону отношения мышления к действительности, согласно которой не только мысль должна соответствовать действительности, но и действительность должна соответствовать мысли. Вещное и иллюзорное сознание на определенном этапе исторического развития становятся полюсами развертывания человеческого познания. Идеология становится концентрированным выражением отношения вещного и иллюзорного наполнения сознания.
С точки зрения феноменологии, вся работа по выявлению позитивного смысла иллюзорного сознания образует необходимую ступень в становлении сознания как такового. На стадии поиска позитивного содержания иллюзии сознание обнаруживает свободу как постоянно действующий духовный принцип, понуждающий индивидуальное сознание к трансценденции, выходу за границы наличных мыслительных форм и образованию новых. Если перефразировать Г. В. Ф. Гегеля, то можно сказать: последовательность форм сознания, которая возникает на этом пути, представляет собой подробную историю дозревания человеческого сознания до уровня науки[48].
Иллюзорное сознание – это необычный объект научного познания. Методы, которые отработаны на исследовании вещей и процессов внешнего мира, искажают сущность этого «объекта». Погружаясь в содержание иллюзорного сознания, научное мышление как никогда рискует упустить истину. Только с возникновением феноменологии как способа философского мышления появилась возможность продуктивной критики иллюзорного сознания. Со времен Г. В. Ф. Гегеля феноменология претендует на то, чтобы «не оставить непродуманным ни одного возможного мотива мысли при развертывании содержания духа»[49].
Другой момент, выявляющий необходимость иллюзорного сознания и идеологии в процессе становления научного мышления, коренится в социальной (коммуникативной) природе мышления. Результаты научного познания теряют свое преобразующее значение в условиях катастрофического разрыва между уровнем мышления, которого достигают индивиды, погруженные в стихию повседневного опыта, и тем уровнем абстракции, которым превосходно владели выдающиеся представители науки. Проблема духовного единства общества, которую пытались разрешить идеологи Французской революции, не утратила своей актуальности на протяжении сотен лет. Она стала камнем преткновения для русских марксистов, готовивших пролетарскую революцию и пытавшихся «внести» социально-преобразующую теорию в структуру традиционного религиозного сознания.
Либеральная идеология, тесно связанная со становлением науки, декларирует равенство всех индивидов перед законом; коммунистическая идеология провозглашает социальное равенство людей, но во всех случаях остается неравенство интеллектуального и духовного развития, которое невозможно преодолеть никакой системой образования без внутренних усилий самих индивидов. В контексте реифицированного сознания эти усилия рассматриваются как отклонение в индивидуальном развитии, нарушающее господствующий порядок вещной организации общественной жизни. Чтобы обеспечить единство социального действия при разных уровнях развития индивидов, политики обращаются к идеологии. Идеология, с одной стороны, провозглашает равенство возможностей, доступность достижений науки для каждого члена общества, при фактическом неравенстве интеллектуальных потенциалов, с другой стороны, она создает социально-технологический разрыв между управляемыми и управляющими, но одновременно с помощью средств массовой информации делает индивидуальное сознание нечувствительным к существованию этого разрыва.
Научная рефлексия на рубеже XVIII–XIX веков, осваивая социальную реальность, развертывающуюся в пространстве вещности и иллюзорности, обнаружила, что эта реальность не схватывается методами естественных наук, сформировавшимися на основе классической теории познания. Социальная реальность обнаруживает такие предметы, форма проявления которых скрывает их действительное содержание. Противоречие между явлением и сущностью социальных процессов становится предпосылкой для развития иллюзорного сознания, обеспечивающего стабильность новых социальных форм. Человеческое сознание, формирующееся в пространстве таких социальных (превращенных) форм, теряет критерии научной истины и попадает под влияние самоузаконивающейся позитивной иллюзии, или идеологии.
В свете сказанного можно предположить, что идеология представляет собой систему средств, с помощью которых общество закрепляет и легитимирует иллюзорные формы, возникающие в процессе научного познания. Идеология представляет собой совокупность способов конструирования иллюзий и закрепления их в системе коллективных представлений. Одновременно она призвана обеспечивать сопряженность этих представлений с процессом прогрессирующей реификации общественной жизни и общественных отношений.
42
Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 47.
43
Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 45.
44
Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 45.
45
Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 18.
46
Соотношение культурных и силовых факторов поддержания политической системы время от времени становится предметом научной дискуссии. Трудности создания устойчивой системы коллективных представлений исследует наш современник Дж. Най. В своей книге «Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике» он пишет: «Если Наполеон, распространяя идеи Французской революции, был обязан полагаться на штыки, то нынче, в случае с Америкой, жители Мюнхена, равно как и москвичи, сами стремятся к результатам, достигаемым лидером прогресса». (Цит. по: Федотова В. Духовная волна должна идти от новых задач… [Электронный ресурс] // http://archive.russia-today.ru/2007/no_06/06_topic_3.htm (Дата обращения: 8.05.2017).
47
Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 63.
48
См.: Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 44.
49
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988. – С. 306.