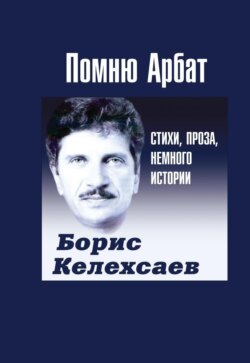Читать книгу Помню Арбат - Борис Келехсаев - Страница 52
Раздел 2
Арбат (50-е годы)
2.9 Церковь и как меня крестили
ОглавлениеПрежде чем рассказать, как меня крестили в начале 50-х годов в православной церкви, немного вспомним историю об отношении власти к церкви после 1917 года. В 1918 году вступил в силу новый Декрет, призванный отделить церковь от государства, при этом у религиозных организаций был отнят статус юридических лиц, а также отобраны все здания и строения, принадлежавшие им. Начались массовые аресты священнослужителей, которые были явно недовольны новой властью, также наблюдались гонения на верующих.
Отношение к религии перед войной стало мягче, особенно это было заметно во время Отечественной войны, когда потребовалось объединение всего народа. Например, своё обращение к народу по радио 3 июля 1941 года Сталин начал так: «Дорогие братья и сёстры!», также обращаются к своим прихожанам священники в церкви.
Было ещё предложено патриархии и многим религиозным организациям отправиться из Москвы в эвакуацию. Верующим разрешили публично праздновать Пасху и вести богослужения вдень Воскресения Господня.
А в 1943 году Сталин пригласил к себе епископов, чтобы они выбрали себе нового Патриарха.
Сталин небезуспешно пытался заручиться поддержкой религиозных деятелей различных вероисповеданий. Без церкви Сталину было бы трудно выиграть войну и быстро восстановить экономику после её завершения. Однако с приходом к власти Хрущёва вновь возродилась антицерковная кампания. Возможно, Хрущёвым двигала личная антипатия к Сталину, и как следствие она переносилась на многое, что было связано с именем Сталина. В конце 50-х годов СССР насчитывал 13008 действующих православных храмов, а в 1970 году уже 7338, а к 1980 году Хрущёв собирался вообще «показать последнего попа по телевизору».
Немного из истории Филипповской церкви, где меня крестили, ведь этот православный храм относит нас к временам правления Ивана Грозного, который хотел иметь около себя святого человека. Выбор его пал на инока Соловецкого монастыря Филиппа (в миру Фёдора Колычева), прославившегося в ту пору своими духовными подвигами. Пригласил царь его в Москву и сделал митрополитом.
Двор митрополита Московского и всея Руси находился на этом самом месте, где в середине XVI века была построена деревянная церковь, носившая имя его небесного покровителя апостола Филиппа. Но не поддержал Филипп злодеяний Ивана Грозного, неустанно писал ему письма с призывами образумиться, но царь многочисленные письма выбрасывал, приговаривая: «ещё одна филькина грамота». Трагическое противостояние митрополита и царя закончилось убийством Филиппа. А уже в середине XVII века его канонизировали.
В 1688 году вместо деревянного построили храм из камня и освятили во имя апостола Филиппа. В 1812 году церковь была сначала разграблена французами, и пострадала от Великого московского пожара, после чего в храме два с половиной года не совершались богослужения.
В 1815 году храм был восстановлен, однако собственного прихода уже не имел.
Церковь Иерусалимского подворья, 1900-е годы
В 1817 году император Александр I получил прошение о даровании Патриархату Иерусалима в Москве подворья для пожертвований на восстановление храма Гроба Господня. И в итоге начали строить Иерусалимское подворье в столице.
Все работы закончились в 1822 году, главный придел храма освятили в честь Обновления Храма Воскресения Христова – Воскресения Словущего. Первым настоятелем стал архимандрит Арсений. Патриарх прислал в дар храму частицу Креста Господня, реликвия хранится на подворье и сегодня. Левый придел церкви освятили в честь апостола Филиппа. К 1852 году был построен южный придел, посвященный иконе Божией Матери «Иерусалимской» и Николаю Чудотворцу.
Был куплен также и участок земли рядом с Пречистенским бульваром, где началось строительство доходного дома. При этом вокруг церкви было построено несколько доходных домов Иерусалимского подворья. До революции сельские храмы жили за счёт своих подсобных хозяйств, садов и огородов, а вот городские – за счет пожертвований и доходных домов, в которых могли жить сами служители и паломники. Доходный дом Иерусалимского подворьяна Пречистенском бульваре был построен в 1892 году архитектором А. С. Каминским.
В 1917 году Иерусалимское подворье было упразднено, но церковь осталась действующей. При этом в 1919 году имущество подворья перешло в муниципальную собственность Моссовета. А в 30-х годах бывший доходный дом на Гоголевском бульваре был надстроен верхним этажом.
Бывший доходный дом, Гоголевский бульвар, 29, 1950
Примечательно, что в советское время храм не закрывался, здесь хранились иконы из всех арбатских церквей. До сих пор церковь так и называют Филипповской, как и переулок.
В 1989 году храм Воскресения Словущего стал вновь именоваться храмом Иерусалимского подворья.
Иногда, когда к нам в гости приходила старшая сестра мамы тётя Маруся, она укоризненно говорила, обращаясь к своей младшей сестре: «Что ж твой Борька некрещёный!». Мама отвечала: «Да, ладно». Но однажды они как-то договорились между собой, двоюродного брата Толю записали моим крёстным отцом, а младшую сестру моей мамы тётю Зину сделали моей крёстной матерью.
Мне в ту пору было 3–4 года, но процесс крещения местами мне запомнился. Маленькая церковь, куда мы отправились, находилась в Филипповском переулке в 7 минутах ходьбы от нашего дома. В церкви были люди, стояли вдоль стен, горели свечи, а посередине залы на возвышении около 1 метра находилась купель. Правда, мне показалось, что она похоже на детскую ванночку, украшенную красивыми полотенцами.
Те, кого привели для обряда крещения, разделись и ждали своей очереди. Нас было не менее 3-х детей, но кроме себя мне запомнилась голенькая девочка на пол головы выше меня и плачущий грудной младенец. Помню, как девочка подошла к батюшке, стоящему возле купели, он что-то говорил и опрыскивал её водой из купели, после подошёл я, меня батюшка тоже окропил, что он говорил, не помню.
Когда поднесли к купели плачущего грудного младенца, батюшка взял его из рук родителей, накрыл лицо малышки своей огромной пятернёй и окунул всего ребёнка в купель.
Помню, тётя Маруся сказала мне, что скоро надо будет сходить в церковь причаститься, при этом, дескать, батюшка даёт хлеб и ложку красного вина. Мне это запомнилось, и я во дворе каждый раз, когда видел, как она шла к нам в гости, кричал ей: «Тёть, Маюсь! Когда в цековь пойдём?». Когда я приходил домой, Тётя Маруся мне вежливо выговаривала, что про церковь прилюдно не надо говорить.
Не помню, как надели на меня крестик на розоватой тесёмочке, но помню, когда в очередной раз мы с отцом оказались в Сандуновских банях, куда ездили каждую неделю, отец, увидев крестик, сказал: «Убери».