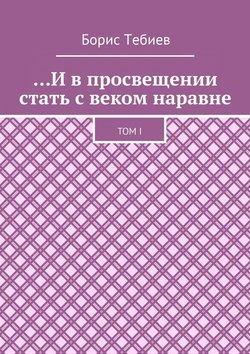Читать книгу …И в просвещении стать с веком наравне. Том I - Борис Константинович Тебиев - Страница 2
…И в просвещении стать с веком наравне:
Педагогические искания и школа пушкинской эпохи
Введение
ОглавлениеВсякий раз, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина, говоря о его величайшем влиянии на русскую культуру, мы вольно или невольно обращаемся и к взрастившей его эпохе. Эпохе, которую знаем, казалось бы, до мелочей и которая еще таит в себе немало неразгаданных тайн. И главная из них – тайна рождения пушкинского гения.
Пушкинской эпохе, педагогическим исканиям и школе той поры посвящена эта книга. Ее название – строка из поэтического послания «Чаадаеву», написанного в апреле 1821 г. и впервые опубликованного три года спустя в журнале «Сын Отечества». Из многих пушкинских творений давайте остановимся на этом потому, что именно в нем содержится счастливое для нас сочетание ключевых понятий – «гений» и «просвещение»:
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел об них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне…
Блистательный современник поэта, так же, как и он, активно стремившийся «стать с веком наравне», математик и педагог Н. И. Лобачевский, размышляя о феномене гениальности, писал: «…Гением быть нельзя, кто не родился. В этом—то искусство воспитателей: открыть гений, обогатить его познанием…». Именно воспитание, считал ученый, «соглашает» «все способности ума, все дарования, все страсти… в одно стройное целое, и человек, как бы снова родившись, является творением в совершенстве».
Природа гениев – «творений в совершенстве» – до сих пор проблематична, несмотря на обилие исследований, посвященных данному явлению. Она представляет собой сложную совокупность взаимодополняющих факторов: внутренних и внешних, врожденных и приобретенных, закономерных и случайных. Это и генетически обусловленная наследственная одаренность, и способность к нестандартному восприятию окружающего мира, и готовность индивида работать над собой. (Именно о такой работе над собой и говорит Пушкин в послании «Чаадаеву»). Это и его ближайшее окружение, способное выявить, оценить дарование, взлелеять талант, и, конечно же, это – общественная среда, эпоха, в которой социализируется гениальная личность.
Вопрос о природе гениальности, путях ее формирования, средствах поиска и открытия, соотношении различных факторов, их взаимосвязи и взаимообусловленности волнует науку очень давно. В течение многих лет над решением этого вопроса бьются философы и антропологи, психологи и генетики. Но особенно близок он педагогам. В силу своей специфики педагогика стоит у истоков формирования личности. Вопрос о том, почему одни становятся гениями, двигающими прогресс человечества, а другие вырастают бездарями и посредственностями, является для педагогики далеко не риторическим.
Это вопрос ее престижа, вопрос ключевой, принципиальный. Ведь именно на долю педагогики, науки универсальной и интегративной в системе наук о человеке, в конечном счете, выпадает задача разрушить многовековые представления о мистической ауре гениальности как явлении сверхестественном и непостижимом в своей сути.
Нельзя не согласиться с уже укоренившимся мнением о том, что каждая эпоха с биологической точки зрения порождает определенное, приблизительно равное количество разнообразно даровитых людей. Вряд ли оспоримо и то, что привилегированная дворянская среда, к которой поэт принадлежал от рождения, дала ему массу счастливых привилегий, в том числе и возможность учиться в одном из лучших учебных заведений всех времен и народов – Царскосельском лицее.
И все-таки Пушкину повезло не только в этом. Рождение пушкинского гения стало ярким ответом на вызов эпохи, обнаружившей острую потребность в людях с развитыми способностями. «Безумное и мудрое» «осьмнадцатое столетие» с его вольтерьянским просвещением, промышленным переворотом в Англии и Нидерландах, возвестившим о начале индустриальной эры человечества, Великой французской революцией, на знамени которой сияли лозунги свободы, равенства и братства людей, американской «Декларацией о независимости», положившей начало крушению рабства в планетарном масштабе, взбудоражило полусонную Россию, заставило ее душой и сердцем прикоснуться к идеям и ценностям общественного прогресса.
Предшествовавшее появлению пушкинского художественного гения культурное развитие обеспечило ему высокий и прочный «культурный пьедестал», поставило «созревающего Пушкина», как писал А. В. Луначарский, «на довольно высокую ступень ранее пройденной лестницы». У подножия этой лестницы и на ее ступенях стояли великое лирико-эпическое наследие русского народа, русская литературная классика ХVIII в., оригинальная философия самобытных русских мыслителей, интеллектуальное богатство Европы.
В те годы, когда формировался и креп пушкинский гений, понятия о человеке как творце и цели общественного прогресса еще не оформились в целостную систему. Вопрос «Что такое человек?» был только сформулирован И. Кантом как основной вопрос философии. Тем не менее лучшие умы Нового времени уже отчетливо сознавали, что именно человек является главным источником всех богатств и субъектом духовной деятельности, создающим мир культуры. Вот почему тенденции защиты прав каждой личности, в том числе и на всестороннее гармоничное развитие, идеи воспитания человека, формирования его способностей и дарований становятся необычайно актуальными, перемещаются в центр общественного внимания.
Суммируя исторический опыт воспитания, К. Маркс справедливо отмечал, что «возможность индивида вроде Рафаэля развить свой талант зависит от спроса, который в свою очередь зависит от разделения труда и порожденных им условий просвещения людей». ХVIII в. подверг эти условия основательной ревизии, передав эстафету веку ХIХ, на стартовой черте которого и началось пушкинское восхождение к гениальности.
Цель настоящей работы – реконструировать, насколько это возможно, непростой и противоречивый в силу различных обстоятельств педагогический фон пушкинской эпохи, хотя бы частично воссоздать ее неповторимый колорит, выяснить, как развивались отечественная школа и педагогика на этом сравнительно небольшом, но весьма ответственном отрезке исторического пути, пройденного Россией.
При этом автор исходит из убеждения, что педагогический фон эпохи благоприятствовал формированию пушкинской гениальности. Важность такой оценки обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что в литературе нет-нет, да и проскальзывают сомнительные суждения о том, что процесс социализации личности может успешно протекать и без активного участия институализированной системы образования. А, во-вторых, тем, что школа и педагогика пушкинской эпохи до сих пор далеко не однозначно оцениваются исследователями. Все это напрямую связано и с дискуссиями относительно того, нужны ли для формирования гения какие-либо исключительные условия, особая локальная питательная среда или нет.
История отечественной школы и педагогики – важнейшая составная часть нашей интеллектуальной истории. Ее познание проливает свет как на процесс развития духовных сил всей нации, так и на процесс личностного роста отдельных ее представителей, и в первую очередь тех, кто своим трудом и своей гениальностью умножил ее славу. Имя Пушкина, выдающегося реформатора русского слова, всегда будет стоять в первых рядах имен наших соотечественников как живое олицетворение России, ее величия и славы. Его значение для русской культуры и русского народа неисчерпаемо. Однако в лучах пушкинской славы не должны померкнуть и имена тех, кто, посвятив свою жизнь воспитанию подрастающих поколений, раскрытию юных талантов, скромно и честно выполнял свой патриотический и гражданский долг на ниве служения прекрасному, доброму и вечному.
Зададимся при этом вопросом: можно ли реконструировать историю отечественной педагогики и школы конца ХVIII – начала ХIХ в. не прибегая к Пушкину, выводя его, пусть даже условно, за рамки эпохи? Ответ напрашивается однозначный: «Нет!». Пушкин есть в этом времени повсюду. Идет ли речь о сближении России с просвещенной Европой или о рождении русского детского театра, о реформах школьного и университетского образования или о репертуаре детского чтения, о новых дидактических приемах или о совершенствовании грамматического строя русского языка. Такова беспокойная природа гениальности.
Диалог с прошлым, который нам предстоит, сближает историю отечественного просвещения с пушкиноведением, делая эту историю более яркой и впечатляющей, насыщенной живыми мыслями и образами поэта, его современников, наставников и друзей, его духовных предшественников и ближайших последователей. Прислушаемся повнимательнее к голосам пушкинского времени: быть может, они донесут до нас то, что с пользой применимо в нашей сегодняшней жизни, что послужит выявлению и развитию новых гениев и талантов, так необходимых нам на нынешней трудной дороге духовного и нравственного обновления.