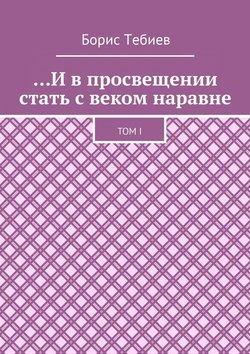Читать книгу …И в просвещении стать с веком наравне. Том I - Борис Константинович Тебиев - Страница 4
…И в просвещении стать с веком наравне:
Педагогические искания и школа пушкинской эпохи
Глава вторая
«Дней Александровых прекрасное начало»
ОглавлениеВремя смелых идей и реформаторских проектов. Министерство народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук. Университеты и учебные округа. Гимназическое образование. Школа для народа. Новый спор о воспитании. Песталоцци и российская педагогика
Наступление нового, ХIХ, века было ознаменовано концом недолгого царствования императора Павла I – в оценке современников «варвара и капрала», сеявшего вокруг себя «безумие и страх». В стране произошел очередной дворцовый переворот. Его причина состояла в том, что выросшее в крупную политическую и культурную силу российское дворянство уже не могло терпеть бестактного к себе отношения со стороны верховной власти и желало видеть себя не «под царем», а рядом с ним.
На российский престол был коронован старший сын покойного императора двадцатитрехлетний Александр I. У просвещенного российского общества новое царствование вызывало немало радужных надежд, связанных с продолжением екатерининского курса, сближавшего страну с цивилизованной Европой и гарантировавшего ему определенные права и свободы. В первые годы царствования молодого самодержца эти надежды действительно оправдались, что дало впоследствии повод Пушкину характеризовать это время как «дней Александровых прекрасное начало».
С первых недель нового царствования была значительно ослаблена казарменная муштра, покончено с публичными казнями и наказаниями – атрибутами мрачного Средневековья. Были возвращены на службу все исключенные без суда и следствия чиновники и офицеры, число которых приближалось к 15 тысячам, уничтожена тайная экспедиция. Молодой император отменил нелепые распоряжения Павла I, запрещавшие молодым дворянам учебу в иностранных учебных заведениях «по причине возникших там зловредных правил, к воспалению незрелых умов на необузданные и развратные умствования подстрекающих», а также ввоз в Россию иностранных книг, периодических изданий и музыкальных произведений. Возобновилась деятельность частных типографий, прерванная указом 1796 г.
Помыслы России устремились в будущее. Умственное затишье сменилось всплеском новых смелых идей и реформаторских проектов.
Указ 7 августа 1801 г. объявлял о высочайшем покровительстве наукам и художествам. В нем говорилось, что «все изобретения, открытия и предположения, к усовершенствованию земледелия, торговли промыслов, ремесел и художеств относящиеся», встретят особенную поддержку верховной власти. Ближайшим сподвижникам молодого императора поручалось организовать прием проектов и мнений, посвященных вопросам экономики. Указ 12 февраля 1802 г. рекомендовал Академии наук публиковать на русском языке заимствованные из иностранных журналов сведения о различных открытиях, касающихся промышленности и сельского хозяйства. В указе выражалось пожелание, чтобы переводы были сделаны возможно более доступным языком, приспособленным к практическим нуждам. Указ 21 февраля 1802 г. требовал, чтобы Академия наук не ограничивалась публикациями только экономических сведений, но помещала бы всякие известия, «могущие служить к возбуждению общей деятельности испытаний и вкуса к просвещению» [16].
Основным результатом развития политической мысли российского либерального дворянства к началу нового царствования являлась концепция монархии, ограниченной «общей силою законов», получившая довольно широкую популярность в различных кругах дворянского общества. Для практической разработки и реализации некоторых назревших государственных преобразований Александр I, мечтавший о лаврах венценосного прогрессиста, не только создал официальный высший совещательный орган – Непременный совет во главе с графом Н. И. Салтыковым, но сплотил вокруг себя кружок молодых друзей и единомышленников, сторонников либерального реформаторства, получивший название Негласного комитета. Взяв за основу идею общественного договора, молодые реформаторы строили планы объединения самодержавия и общества во имя величия России, процветания ее экономики, науки и культуры.
В состав Негласного комитета входили европейски образованный администратор и способный дипломат Николай Николаевич Новосильцев, проведший после вынужденной отставки в 1796 г. несколько лет в Лондоне, где активно занимался самообразованием, слушал лекции в университете; поклонник английской конституции граф Павел Александрович Строганов, получивший по воле своего отца, известного мецената и масона, воспитание у якобинца Жильбера Ромма, вместе с ним участвовавший в революционных событий во Франции и даже состоявший членом Парижского якобинского клуба; польский патриот, отпрыск старинного княжеского рода Адам Ежи Чарторыский, отличавшийся независимостью и глубиной суждений; граф Виктор Павлович Кочубей, государственный деятель и дипломат, сторонник умеренного реформаторства.
Обдумывая вопрос о существе возможной российской конституции, молодые реформаторы предлагали широкий перечень преобразований, призванных изменить облик России и выдвинуть ее в число не только самых мощных, но и самых передовых стран Европы. Самый юный и самый пылкий из членов Негласного комитета граф Строганов определял возможную российскую конституцию как «законное признание прав народа и тех форм, в которых он может осуществлять эти свои права». По мнению Строганова, в России уже существовали некоторые элементы такой конституции, воплощенные в жалованных грамотах 1785 г. дворянству и городам. Поэтому первостепенной задачей в историческом развитии русской конституции и государственности он видел обеспечение конституционными благами народных масс, и прежде всего многомиллионного российского крестьянства, оставшегося за рамками жалованных грамот. Отмечая, что большинство русских крестьян «одарено и большим умом и предприимчивым духом, но лишено пользоваться и тем и другим», он полностью разделял мысль своего отца, депутата екатерининской комиссии по составлению проекта нового уложения А. С. Строганова о пользе просвещения для крестьян и устройства для них общеобразовательных школ.
Разрабатывая программу конституционных и административных реформ, молодой Строганов считал, что вопрос о народном просвещении должен стоять среди первейших [17]. При этом главную цель реформаторства он видел в том, чтобы тесно соединить между собой закон и нравственность. Для того чтобы законы основывались не на насильственном принуждении, а на нравственности, необходимо широкое развитие народного образования, ибо «нравы… укореняются и обращаются в общее народное свойство просвещением большей части граждан» [18].
В этой связи Строганов полагал, что общественное образование должно обнимать все области просвещения, что нужно различать несколько ступеней образования. На первой следует сосредоточить общую сумму знаний, подлежащих усвоению всеми гражданами. Вторая ступень должна доставить обществу людей, углубленных в специальные области знаний. Наконец, завершением всей системы являются высшие специальные школы, военные, юридические и другие. Ставя в пример французскую модель организации образования, Строганов отмечал, что она заслуживает быть распространенной повсюду. Стыдно, имея перед глазами столь хорошие образцы, не воспользоваться ими. Но порядки, хорошие для Франции, по различию обстоятельств не могут быть применимы в России без изменений, возражал Александр I. Уточняя свое предложение, Строганов заявлял, что во Франции необходимо заимствовать вовсе не букву, а «дух системы» [19].
Взгляды на необходимость перестройки системы образования были изложены Строгановым на заседании Негласного комитета 23 декабря 1801 г., который был посвящен обсуждению поданной Александру I записки его бывшего воспитателя Ж. Ф. Лагарпа с предложением устроить в России «комитет общественного образования» во главе с министром.
Возникший спор нашел свое продолжение 12 мая следующего года на заседании, обсуждавшем практические вопросы организации в стране наряду с прочими ведомствами и министерства народного просвещения. При этом от члена Непременного совета графа А. Р. Воронцова в комитет поступило предложение не вводить в ведение будущего министра просвещения филантропические образовательно-воспитательные учреждения, подведомственные императрице-матери, а также специальные военные школы. Это мнение было поддержано Чарторыским, который предложил отставить в ведении министра просвещения только общее образование. Строганов же в подкрепление своего прежнего мнения дал новую ссылку на Францию, где специальные школы распределены по разным ведомствам, но воспитанники этих школ получают предварительное образование в общих школах.
Общее настроение участников заседания Негласного комитета, возглавляемого императором, по всей видимости, было в пользу заявленного Строгановым «духа системы», строгого единства предстоящей образовательной реформы в основании и высшей цели – воспитать добрые нравы как «общее свойство народа». Однако сама идея нового министерства, основная линия его деятельности намечались не столь ясно, как это казалось первоначально. Свидетельством этого стал оживленный спор, разгоревшийся вокруг вопроса о том, как именовать новое министерство: министерством общественного образования или воспитания (instruction ou education publique).
В. П. Кочубей высказался за термин «education», поскольку он меньше поразил бы общество, а термин «instruction» произвел бы дурное действие ввиду широко распространенного предрассудка об опасности чрезмерного распространения источников просвещения. Другие участники дискуссии полагали, что термин «instruction» правильнее, что «education» совсем другая вещь, о которой нельзя и думать. Они же полагали, что термин «instruction» не произведет никакого дурного действия и что просвещение, насаждаемое самим правительством, не может казаться подозрительным.
Строганов высказался за термин «education», который казался ему более общим, обнимающим и понятие «instruction». Он выражал уверенность в возможности осуществить «education publique», но возражал против смешения его с «education nationale», которое было неосуществимо. Спор закончился решением императора присвоить новому министерству термин «instruction publique», что официально было переведено как «народное просвещение» [20].
8 сентября 1802 г. был принят высочайший манифест, возвестивший о том, что наряду с министерствами военным, морским, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, в России учреждается и Министерство народного просвещения. Определяя задачи учебного ведомства, 7-й параграф высочайшего манифеста об учреждении министерств гласил: «Министр народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук имеет в непосредственном ведении своем Главное училищное правление со всеми принадлежащими ему частями, Академию наук, Российскую академию, университеты и все другие училища, кроме предоставленных особенному попечению любезной родительницы нашей императрицы Марии Федоровны и находящихся по особенному повелению нашему от управления других особ или мест; типографии частные и казенные, исключая из сих последних состоящие также под непосредственным чьим-либо ведомством, цензуру, издание ведомостей и всяких периодических сочинений, народные библиотеки, собрание крепостей, натуральные кабинеты, музеи и всякие учреждения, какие впредь для распространения наук заведены быть могут».
Вводя в официальное употребление термин «народное просвещение», манифест 8 сентября констатировал появление в России особой отрасли государственного управления, а также государственного органа, несущего полную ответственность перед высшей властью и в известной мере перед обществом за состояние системы образования и воспитания юношества, сохранение ценностей отечественной культуры и распространение наук.
Первым министром просвещения в России стал «екатерининский служивец» граф Петр Васильевич Завадовский (1739—1812). Выпускник Киевской духовной академии, он начал свою служебную карьеру с низов, скромным чиновником Малоросской коллегии. Будущий министр участвовал в Русско-турецкой войне 1768—1774 гг., отличился в битвах при Ларге и Кагуле. Приближенный наместником Малороссии генерал-фельдмаршалом графом П. А. Румянцевым, молодой и статный красавец-полковник, обладавший к тому же благодаря знанию античных классиков хорошим русским литературным слогом, в 1775 г. попал в поле зрения Екатерины II и вскоре стал не только ее кабинет-секретарем, но и фаворитом. Впоследствии Завадовский участвовал в составлении государственных законов, проводил ревизии присутственных мест, управлял учебными заведениями, в том числе Пажеским корпусом и Медико-хирургической школой. В начале царствования Павла I был осыпан милостями и произведен в графское достоинство, но затем впал в опалу и жил в деревне. С воцарением Александра I он снова был приближен ко двору и назначен членом совета при государе, присутствующим в Сенате.
Отзывы современников о первом российском министре просвещения крайне противоречивы. Нелестную характеристику Завадовскому дал французский агент в Петербурге барон де Лессепс. «Министр просвещения, – отмечал француз, – сам погружен во мрак ХV в., педант и софист, игрок и рогоносец, имеющий самодовольный вид и ничтожные способности; он более других стремится налагать на все свое вето, в действительности же он имеет наименьшее значение. Он также только обременяет свою отрасль управления, которую считает малосущественной, так как она наименее прибыльна». Не всегда лестно отзывался о первом министре просвещения и император Александр I, а его наставник-воспитатель Ж. Ф. Лагарп считал Завадовского не способным руководить народным просвещением. Он отзывался о министре как о человеке надменном, корыстолюбивом, тщеславном, недобросовестном, окружавшем себя льстецами и не терпящим людей правдивых, заклятом враге новых веяний.
Объективности ради заметим, что «баловень судьбы» Завадовский в действительности не был лишен государственных способностей. Об этом, безусловно, свидетельствовали его заслуги на поприще народного образования. Именно Завадовский был назначен в 1782 г. руководителем екатерининской Комиссии об учреждении училищ, подготовившей школьную реформу 1786 г. По оценке современника, «ревностно поспешествовал он во всех важных и для отечества столь полезных трудах сей комиссии и участвовал в составлении проекта для училищ, гимназий и университетов». О государственном уме Завадовского свидетельствовали и его выступления в Сенате накануне создания министерств, его предминистерская деятельность и работа на посту министра народного просвещения. А. Е. Чарторыский характеризовал Завадовского в своих воспоминаниях как человека хороших качеств, немного неуклюжего в обращении, но справедливого и доброжелательного. «Его ум, так же как и его фигура, были неповоротливы, – писал Чарторыский, – он с трудом постигал мысль и не мог уловить всех ее тонкостей, но он старался показать, что умеет понимать и ценит все новые идеи, и хотел, чтобы его не смешивали с теми остальными людьми, которые ничего нового не хотят знать и ничего не забывают» [21].
Впрочем, назначение умеренного консерватора графа Завадовского министром просвещения было продиктовано не столько необходимостью, сколько соображениями политического свойства. Старая придворная аристократия была недоверчива к молодым реформаторам. Отдельные ее представители (в том числе и поэт Державин) называли в своей среде членов Негласного комитета не иначе как «якобинской шайкой». В этой ситуации неглупый и лояльный к курсу реформ Завадовский был своеобразным буфером, сдерживавшим, с одной стороны, поток критики и брани аристократов в сторону молодых реформаторов, а с другой – слишком бурные порой реформаторские порывы молодых друзей царя.
Последовавшее вслед за учреждением Министерства народного просвещения назначение Новосильцева, Строганова и Чарторыского в состав руководящего органа министерства – Главного правления училищ и на ответственные посты попечителей учебных округов являлось достаточно весомой гарантией реализации организационно-педагогических реформаторских проектов. Кроме того, в ближайшем окружении министра оказались такие прогрессивно мыслившие люди, как сенатор Михаил Никитич Муравьев – общественный деятель и писатель, отец будущих декабристов Александра и Никиты Муравьевых, видевший в свободе и образовании «главный фундамент благосостояния народа», бывшие члены екатерининской Комиссии об учреждении народных училищ в Российской империи Ф. И. Янкович де-Мириево и П. С. Свистунов, основатель Харьковского университета В. Н. Каразин, попечитель Дерптского университета и директор кадетского корпуса, известный романист и драматург Ф. М. Клингер, академики Академии наук Н. Я. Озерецковский и Н. И. Фус.
Первым крупным плодом усилий молодого министерства и группировавшихся вокруг него реформаторов явились высочайше утвержденные 24 января 1803 г. «Предварительные правила народного просвещения», констатировавшие, что «народное просвещение в Российской империи составляет особенную государственную часть» и что предназначено оно «для нравственного образования граждан, соответственно обязанностям и пользам каждого состояния».
В соответствии с «Правилами» главнейшими принципами, на которых строилась новая система российского образования, являлись: государственный характер школы; общее светское образование; доступность образования (при известных условиях) всем сословиям. Государственная школьная система должна была состоять из четырех типов учебных заведений: училищ приходских; училищ уездных; училищ губернских, или гимназий; университетов. Все действовавшие в империи учебные заведения должны были находиться в непосредственном ведении университетов, число которых соответствовало числу учебных округов. В соответствии с «Правилами» приходские училища являлись подготовительными для уездных, а гимназии – для университетов. Впервые в российском законодательстве был поставлен вопрос о создании училищ в сельской местности на базе действовавших церковных приходов, причем дело учреждения приходских училищ было предоставлено «просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков», а преподавание в них – приходским священникам.
Все учебные заведения были связаны между собой как в учебном, так и в административном отношении, что являлось явным заимствованием идей выдающегося французского просветителя и революционера Кондорсе. Как бы подчеркивая факт своего равнения на передовую Европу, министерство перевело «Предварительные правила» на французский язык и, отпечатав их в количестве 250 экз., разослало заграничным ученым обществам. Ежегодный расход казны на содержание уездных училищ, гимназий и университетов определялся довольно солидной для той поры суммой в 1.319.450 рублей.
Идеи и принципы, сформулированные в «Предварительных правилах», получили свое развитие в высочайше одобренных 5 ноября 1804 г. документах – «Уставе университетов» и «Уставе учебных заведений, подведомственных университетам», через которые проходили две параллельные тенденции: 1) расположить все четыре типа учебных заведений в иерархической последовательности, как последовательно восходящие ступени единого, общего «нравственного воспитания граждан» без различия сословий; 2) поставить каждую ступень как некий законченный цикл (круг), отвечающий «обязанностям и пользам» определенного сословия. Таким образом, предложенная России новая система образования представляла собой очевидный компромисс между традиционным принципом сословного образования и идеей единого по духу и высшей цели гражданского воспитания как морального обеспечения конституционной реформы [22].
Включенные в новую систему образования три сословных круга: дворянский, с уклоном на энциклопедизм, мещанский с ориентацией на техническое образование, приспособленное к местным условиям промышленности, и крестьянский, исходивший из идеи всесторонней физической и моральной опеки над личностью крестьянина, безусловно, свидетельствовали о стремлении реформаторов сохранить существовавший в русском обществе начала ХIХ в. status quo. Заложенная же в уставах 1804 г. идея единого по духу и высшей цели гражданского воспитания как морального обеспечения предполагавшейся конституционной реформы открывала перед российской школой определенную перспективу ее трансформации в полноценную общедоступную школу.
Согласно новым уставам различные типы учебных заведений соединялись в единую систему, ключевым звеном которой становились гимназии. Они открывали своим воспитанникам путь к университетскому образованию, являвшемуся гарантией получения «места» в системе государственного управления и успешного старта чиновничьей карьеры. Кроме того, гимназический устав предполагал и иной вариант, при котором выпускник гимназии мог бы сразу выйти в самостоятельную трудовую жизнь. В этих целях учебным планом предусматривалось «преподавание наук, хотя начальных, но полных».
Александровские гимназии вобрали в себя лучший опыт средних учебных заведений екатерининской эпохи. Здесь изучались необходимая для высшей школы латынь и новые европейские языки – французский и немецкий, философия, российская и всеобщая история, география. Из кадетских корпусов в них перешли «изящные науки», к числу которых относилась и литература. Из главных народных училищ – математика (алгебра, геометрия, тригонометрия), механика, гидравлика и другие разделы физики, «наиболее в общежитии нужные». В программу гимназий вошли также начала весьма модной в те годы политической экономии, познаниями в которой могли блеснуть не только пушкинский Онегин, но и многие его сверстники, а также статистика – всеобщая и Российского государства. Создавались библиотеки, кабинеты учебных и наглядных пособий.
При гимназиях могли открываться специальные классы и курсы: коммерческие, сельскохозяйственные, межевые, лесные и прочие. Здесь же организовывалось приготовление к учительской должности желающих быть учителями в уездных, приходских и других училищах. Известно, например, что в 1804 г. при Смоленской гимназии был открыт коммерческий класс, где в качестве дополнительных предметов изучались коммерческая география, гражданская архитектура, купеческая выкладка, бухгалтерия на российском и немецком языках, сочинение купеческих писем и коммерческие сведения с разделением дел на банкирские, собственные и комиссионерские, английский язык. В том же году при Херсонской гимназии были открыты мореходные классы. В 1807 г. была открыта школа землемеров при Волынской гимназии, готовившая квалифицированных межевщиков и землемеров.
Основной гимназический курс состоял из четырех классов при 30-часовой учебной неделе. Он являлся логическим продолжением учебного курса уездных училищ. Подобно гимназиям уездные училища также выполняли двойную функцию: они готовили своих воспитанников как к продолжению образования на гимназическом уровне, так и к практической жизни. Для этого уездные училища должны были «открыть детям различного состояния необходимые познания. Сообразно состоянию их и промышленности». При двухгодичном курсе обучения в уездных училищах изучались Закон Божий, священная история, книга «О должностях человека и гражданина», грамматика, чистописание, всеобщая и отечественная география и история, арифметика и геометрия, физика и естественная история (биология), рисование, начальные правила технологии, «имеющие отношение к местному положению промышленности».
Начальным звеном отечественной системы образования являлись приходские училища, которые могли учреждаться в губернских и уездных городах и в селениях при каждом церковном приходе. По аналогии с другими звеньями новой системы образования приходские училища предназначались как для подготовки детей к продолжению образования в уездных училищах «если родители пожелают, чтобы дети их продолжали в оных учение», так и для того, «чтобы доставить детям земледельческого и других состояний сведения, им приличные, сделать их в физических и нравственных отношениях лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, действия коих столь вредны их благополучию, здоровью и состоянию».
В приходских училищах дети обучались чтению, письму, первым действиям арифметики, главным началам Закона Божия и нравоучения, читали с объяснением книгу «Краткое наставление о сельском домоводстве, произведении природы, сложении человеческого тела и вообще о средствах к предохранению здоровья». Обучение в приходских училищах начиналось «от окончания полевых работ» и продолжалось «до начала оных в следующем году».
Из всех элементов новой системы образования приходские училища, ориентированные практически лишь на нужды крестьянского сословия, оказались в самом невыгодном положении. Государство не взяло на свой счет их содержание и не приняло мер к обеспечению их необходимым учительским персоналом. Приходские училища в казенных селениях «вверялись» местному духовенству при содействии почетнейших граждан (то есть местных меценатов). В помещичьих селениях организация приходских училищ «предоставлялась просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков». Эти обстоятельства лишали приходские училища, являвшиеся фактически фундаментом всей системы общегражданского образования в стране, необходимой устойчивости и надежности.
Ряд разделов «Устава учебных заведений, подведомственных университетам» был посвящен другим типам учебных заведений. Не исключалась возможность существования в стране частных пансионов и «училищ, под особым названием устроенных». Желающий завести у себя пансион наряду с прошением на имя директора местной гимназии, в ведении которого находились все училища и пансионы в губернском городе, а также прочие уездные, приходские и другие училища в губернии, должен был представить необходимые для этого свидетельства и «обстоятельный план, какие науки он в училище своем завести намерен, кто таковы те, кои в оном обучать будут, имеют ли они надлежащие свидетельства о тех занятиях, коим других учить хотят, равно как и о способе учебном».
В числе неукоснительных правил, касавшихся частных учебных заведений, было обязательное изучение русского языка и обучение Закону Божию «не иначе, как по исповеданию той веры, к которой дети принадлежат». «Более всего, – отмечалось в „Уставе“, – препоручается содержателям и учителям, дабы они в питомцах и учениках своих старались поселять правила благонравия, подавая им в том пример, и потому быть им при них неотлучно, и удалять от них все, что может быть поводом к соблазну; беседовать с ними о вещах полезных и поучительных; внушать страх божий, заставляя их ходить в церковь в праздничные дни и молиться, вставая и ложась спать, перед начатием и окончанием учения, перед столом и после стола. Стараться также доставлять им невинные увеселения, когда есть к тому добрые случаи, обращая оные им в награждение и отдавая всегда преимущество прилежнейшим и благонравнейшим».
Содержатели пансионов были обязаны также воздерживать своих воспитанников от всякой неги, приучать их к бодрости, умеренности и трудолюбию, укрепляющему тело, заставлять их вставать с постели в 6 часов, а ложиться спать не позднее 10 часов. Пансионы могли учреждаться исключительно для детей одного пола, «чтобы никогда не воспитывались дети обоего пола вместе».
Особый статус в рассматриваемую эпоху приобретают в России университеты. Они становятся организующим центром новой системы образования, средоточием передовой науки, распространителями научного знания в российских столицах и провинции. К началу царствования Александра I в России действовали всего три университета – в Москве, Вильне и Дерпте. Поскольку общая структура руководства народным просвещением предполагала создание шести учебных округов под началом университетов, в стране предстояло создать в ближайшее время как минимум еще три университета. Местами для их учреждения были избраны Петербург, Казань и Харьков. Дальнейшее расширение университетской сети предполагалось осуществить за счет открытия университетов в Киеве, Тобольске, Устюге Великом и других российских городах «по мере способов, какие найдены будут к тому удобными».
Высочайше утвержденный в 1804 г. «Устав университетов» фактически вводил в России систему автономных университетов с выборными (на один год) ректором и деканами, с выборным инспектором, с правлением из выборных лиц, к которым присоединялся назначенный попечителем учебного округа «непременный заседатель», наблюдавший за соблюдением порядка и сохранением закона, с советом, в состав которого входили ординарные и заслуженные профессора.
Университетским советам давалось при этом право выбирать профессоров, утверждать составляемые факультетами планы преподавания и расписание экзаменов. Факультеты, состоявшие из профессоров и адъюнктов, экзаменовали претендентов на ученые степени кандидата, магистра и доктора. Попечители учебных округов, на которые делилось образовательное пространство Российской империи, являлись одновременно членами главного правления и ежегодно должны были визитировать вверенные им учебные округа. Все остальное время они должны были находиться в Петербурге, так что фактически во главе учебного округа стоял университет.
Новая для России система образования как бы сливала университеты с организацией средней школы, превращала их в своеобразный рассадник для подготовки педагогического персонала гимназий и других учебных заведений. В этих целях при каждом университете должен был действовать педагогический институт для подготовки учителей и училищный комитет, осуществлявший управление гимназиями, уездными и приходскими училищами.
Одним из непосредственных инициаторов университетской реформы и ее проводников в жизнь являлся замечательный общественный деятель Василий Назарович Каразин (1773—1842). Биография этого человека была насыщена приключениями и неутомимой работой мысли. Его отец, екатерининский полковник, являлся владельцем небольшого поместья Кручик в Богодуховском уезде Харьковской губернии, полученного за верную службу Отечеству. На военную службу был определен и Василий Каразин. Она проходила в Петербурге, где молодой офицер в приватном порядке посещал Горный корпус, слушал лекции по естественным дисциплинам. Тяга Каразина к знаниям была настолько велика, что в 1798 году он даже пытался тайно пробраться за границу с целью усовершенствоваться в науках. Однако это ему не удалось. Каразин был задержан стражей. Ему грозило суровое наказание, но благодаря природной сметке он упредил донесение властей, направив письмо Павлу I.
С момента восшествия на престол Александра I Каразин становится активным поборником намечающегося реформаторства. Независимо ни от кого он разрабатывает собственную программу реформаторства России на основе установления прочных законов, созыва представителей народа для выслушивания их мнений, уменьшения налогов, урегулирования крестьянских повинностей и поощрительных мер в области народного хозяйства, излагает ее в анонимном письме и доводит до сведения императора. Ознакомившись с документом, Александр I велит разыскать автора, оказывает ему знаки внимания и позволяет всегда обращаться к нему по общественным делам.
Покровительство императора длилось недолго, немногим более трех лет, но и за это время Каразин сумел сделать очень многое. Он принимал активное участие в создании Министерства народного просвещения, где занимал должность правителя дел Главного правления училищ, участвовал в разработке проектов университетских и академических уставов. По его инициативе и под его началом был создан печатный орган министерства – журнал «Ежемесячные сочинения об успехах народного просвещения».
Именно Каразину обязан своим рождением и университет на его родине – в Харькове. История Харьковского университета начиналась не совсем обычно. По первоначальному плану Негласного комитета университет для Малороссии предполагалось открыть в Киеве. Однако, пользуясь расположением императора, Каразин поспешил его убедить, что харьковское дворянство особо желает открытия университета у себя в городе и готово пожертвовать на это 400.000 рублей, что впоследствии и было сделано.
В первые годы своего существования молодые российские университеты – Казанский и Харьковский – испытывали немалые организационные трудности. Новые принципы автономного устройства привели к резкому противоречию между университетами и другими местными учреждениями. Жертвой этих противоречий оказались в первую очередь иностранные профессора, приглашенные в новые университеты и плохо мирившиеся с постоянными нарушениями того, что считали своим законным правом. Лучшие из них стали покидать страну, другие – сосредоточились на решении личных вопросов. На кафедрах образовались пробелы, которые не смогли заполнить молодые русские преподаватели, прежде всего по причине недостаточно высокого для университетского преподавания знания.
Весьма слабой была и базовая подготовка студентов-провинциалов. Многие из них вообще не владели иностранными языками и были не в состоянии слушать преподавание на латинском, немецком или французском языках. В провинциальных университетах в первые годы не существовало никаких конкурсов и общее количество студентов не превышало ста человек. Это было естественным, поскольку в университеты шли дети недостаточно обеспеченных родителей, те, мечты которых не шли дальше получения незавидного места учителя средней школы и кто рассчитывал получить в университете казенную стипендию. Университетским профессорам приходилось тратить большое количество учебного времени для заполнения пробелов гимназического образования, особенно по латинскому языку.
Удовлетворительно посещались лишь лекции, которые нужны были для будущих гимназических преподавателей философских и политических наук, вошедших в гимназическую программу на основе Устава 1804 г. Из других предметов повезло лишь математике. Иностранным профессорам уже в первые годы удалось подготовить из русских студентов целый ряд блестящих специалистов-математиков, среди которых особо выдающимися стали Н. И. Лобачевский и М. В. Остроградский.
Слабее всего было поставлено преподавание медицинских наук. В университетах отсутствовали самые элементарные и необходимые учебные пособия по медицине: книги, атласы, препараты. Многие важные темы курса профессорам приходилось объяснять буквально на пальцах.
Убедившись, что ни приглашение зарубежных профессоров, ни выучка в России своих кандидатов на профессорские звания не дают возможности качественно обставить университетское преподавание, учебное ведомство приходит к единственно правильному в тех условиях решению – направлять русских стипендиатов для приготовления к профессорскому званию в заграничные университеты. Позднее главным местом такой подготовки становится Дерптский университет.
Проблемы, с которыми сталкивается молодая российская университетская система, требуют существенного переосмысления содержания гимназического образования. Практическую реализацию этой задачи берет на себя молодой попечитель Петербургского учебного округа, будущий николаевский министр просвещения и создатель теории официальной народности С. С. Уваров. В 1811 г. он предлагает на опыте одной отдельно взятой петербургской гимназии апробацию новой модели средней школы с классической программой, ориентированной на подготовку абитуриентов для университетов, и получает на это согласие. Из учебного плана гимназии исключаются философия и изящные науки (эстетика, всеобщая грамматика, метафизика, нравоучение, психология), начальные основания политической экономии и наук, относящихся к торговле и технологии. Одновременно усиливается преподавание языков, особенно древних, расширяется преподавание истории и географии. Эксперимент в целом оказывается удачным, и в 1819 г. административным распоряжением он распространяется на все гимназии страны.
Следует отметить, что эта мера неоднозначно трактовалась как современниками, так и последующими исследователями истории отечественной средней школы, как, впрочем, и вся реформаторская деятельность «дней Александровых прекрасного начала». В отечественной историко-педагогической литературе советского периода негативные оценки учебной реформы начала ХIХ в. преобладали. Например, известный историк педагогики Е. Н. Медынский писал, что просветительная политика правительства в первые годы ХIХ в. ставила задачей, внешне оперируя просветительными идеями буржуазной революции ХVIII в. и извращая их, обезвредить эти идеи и в таком искаженном виде приспособить к укреплению самодержавной монархии. Примерно то же утверждали и авторы академического труда «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. ХVIII в. – первая половина ХIХ в.» (М.: Педагогика, 1973). Еще более резкие суждения высказывались в адрес уваровского классицизма. Он расценивался однозначно как способ борьбы с вольнодумием, внедрявшимся в головы гимназистов вместе с философией и другими исключенными из учебного плана предметами.
С подобными оценками вряд ли можно согласиться. Реформы начального периода царствования Александра I, в том числе и образовательные, были для России явлением, безусловно, прогрессивным. Именно так их оценивали многие современники, к мнению которых следует прислушиваться. Н. М. Карамзин, например, приветствовал школьные реформы двумя статьями «О новом образовании народного просвещения в России» и «О верном способе иметь в России довольно учителей» (1803 г.). В них он выражал надежду на то, что вновь открывшимися благами просвещения воспользуются все сословия, в том числе и дворянское, призванное показать в этом пример остальным. Писатель отмечал, что уже нигде в Европе благородное сословие не думает о том, что пыльный генеалогический свиток есть право быть невеждою и занимать важные места в государственном порядке. Не должно этого быть и в России.
Надежным подспорьем в деле распространения народного просвещения в России становятся многочисленные филантропические (благотворительные) и просветительские организации, ученые и литературные общества, которые начинают создаваться повсеместно с первых месяцев царствования Александра I при благожелательном отношении молодого императора и правительственном содействии.
В числе первых благотворительных и просветительных организаций было Императорское человеколюбивое общество, учрежденное особым рескриптом Александра I от 16 мая 1802 г. на имя камергера А. А. Витовтова, которому поручалось «для вспомоществования истинно бедным в столице составить особое благотворительное общество». Первыми руководителями общества стали назначенные императором министр коммерции граф Румянцев, надворный советник Щербаков и иностранный купец с экзотической фамилией Фан-дер-Флит.
Первые шаги общества были связаны с организацией медицинской помощи бедным в виде домашнего лечения и диспенсарии в различных частях города, где приходящие больные получали от врачей советы и лекарства бесплатно. В 1805 г. при обществе возникли благотворительный и ученый комитеты, которые занимались сбором сведений о новых проектах, открытиях и учреждениях в пользу страждущих и установили контакты с отечественными и зарубежными филантропами.
Во второй четверти ХIХ в. в составе общества насчитывалось уже более 30 различных учреждений и богоугодных заведений. Общество решало целый ряд важных для России социальных проблем, наряду с медицинской помощью населению оно ведало воспитанием и обучением сирот и детей бедных родителей, призрением пожилых, увечных и нетрудоспособных граждан, занималось созданием домов трудолюбия.
К началу ХХ в. в составе общества, распространявшего свое влияние на всю страну, работали 63 учебно-воспитательных учреждения, в которых воспитывались и обучались свыше 7000 сирот и детей бедных родителей, 20 медицинских учреждений на 175 тысяч больных, 63 богадельни, 32 дома бесплатных и дешевых квартир. Общество вело свою работу почти исключительно на частные пожертвования, среди которых значительные суммы составляли пожертвования высочайших особ.
В 1805 г. при Московском университете было открыто Императорское московское общество испытателей природы. Целью его по мысли создателя – Г. И. Фишера фон Вальдгейма являлись разработка естественных наук и распространение их в России. В числе основателей общества был граф А. К. Разумовский. Общество многое сделало для развития отечественного естествознания.
В 1811 г. при Московском университете открылось Общество любителей российской словесности, основанное Д. Языковым. Оно было создано в целях «распространения сведений о правилах и образцах здравой словесности и доставления публике обработанных сочинений в стихах и прозе, на русском языке, рассмотренных предварительно и прочитанных в собрании». Среди учредителей и первых членов общества были П. И. Страхов, А. А. Прокопович-Антонский, Н. Н. Сандунов, П. П. Бекетов, гр. Н. И. Салтыков, М. Т. Каченовский, А. Ф. Мерзляков, Л. А. Цветаев, Е. Ф. Тимковский.
Председателем общества стал Прокопович-Антонский, исполнявший эту должность в течение 15 лет. Уже в первые годы работы общество выпустило четыре тома своих «Трудов». К 1826 г. вышли 25 частей. Кроме этого, в 1822—1828 гг. общество выпустило шесть частей «Сочинений в прозе и стихах». В 1819—1823 гг. под редакцией профессора И. Снегирева вышли четыре тома «Речей, произнесенных профессорами в университетских собраниях, с жизнеописаниями авторов». Собрания общества проходили до 1844 г. В 1858 г. на волне либеральных преобразований в стране оно возобновило свою работу.
Аналогичное общество было открыто в 1806 г. в Казани. В 1811 г. в казанском Обществе любителей российской словесности состояли 32 члена.
В 1804 г. при Московском университете профессором Х. А. Чеботаревым было открыто Общество истории и древностей российских. В него вошли преподаватели университета, а также историки, архивисты и археографы, в числе которых были Н. М. Карамзин, Н. Н. Бантыш-Каменский, А. Ф. Малиновский, К. Ф. Калайдович, А. И. Мусин-Пушкин и др. Особенно активно научная деятельность общества развернулась после Отечественной войны 1812 г. Наибольший размах исследовательская и публикаторская работа общества (издание летописей, древних актов и т.д.) получила с 40-х гг. XIX в., когда во главе его находились такие исследователи, как О.М.Бодянский, И. Д. Беляев, А. Н. Попов, Е. В. Барсов. В конце XIX-начале ХХ в. общество объединяло большую часть русских историков и археографов, а также собирателей рукописей, издавало «Записки и труды», «Русский исторический сборник», «Чтения МОИДР», в которых было опубликовано огромное количество разнообразных источников, а также исследований по русской истории.
Особая судьба выпала на долю первого в России Математического общества, основанного в 1810 г. пятнадцатилетним студентом Московского университета, страстным любителем математики Михаилом Муравьевым. В конце ХVIII – начале ХIХ в. математическое образование в российских университетах находилось на довольно низком уровне, было представлено, как правило, одним—двумя преподавателями. Не издавалось математических журналов. Общество ставило своей задачей исправить сложившуюся ситуацию и способствовать широкому распространению математических знаний посредством специальных сочинений, переводов и преподавания. Главный костяк общества составили студенты и кандидаты университета, к которым вскоре присоединились и некоторые преподаватели. Председателем был избран отец основателя генерал-майор Н. Н. Муравьев, придавший работе общества преимущественно учебный характер. Члены общества распределили между собой преподавание математических курсов (чистой математики и некоторых разделов прикладной). В московском доме Муравьевых начались бесплатные публичные лекции по математике и военным наукам, ориентированным на квартирмейстерство. Военные науки преподавал Н. Н. Муравьев. Лекции имели большой успех у москвичей, особенно из числа военных.
Ознакомившись с работой этого необычного учебного заведения, генерал-квартирмейстер князь П. М. Волконский не только горячо одобрил полезное начинание, но и предложил слушателям вступить в службу колонновожатых. В 1815—1816 гг. это предложение приняли 44 слушателя муравьевских лекций. Все они успешно выдержали предложенный военным руководством экзамен. Это дало генералу Волконскому повод ходатайствовать перед императором о создании в Москве на базе Математического общества государственного учебного заведения для колонновожатых. Впоследствии здесь стала осуществляться подготовка офицеров Генерального штаба.
В Московское учебное заведение для колонновожатых (таково было его первоначальное название) принимались дворяне не моложе 16 лет по предварительном испытании в русском и иностранном языках (немецком или французском), в арифметике и начальных основаниях геометрии и истории. Преподавание велось по трем основным циклам: математическому (арифметика, алгебра до уравнений второй степени включительно, геометрия, тригонометрия плоская и сферическая, приложение алгебры к геометрии, аналитическая геометрия с включением конических сечений и начала высшей геодезии); военных наук (фортификация, начальные основания артиллерии и тактика); общеобразовательных дисциплин (всеобщая и российская история, география, черчение, особенно ситуационных планов). Предметы распределялись на три курса. Каждый курс проходился за 4 месяца. Летом все слушатели отправлялись в одно из имений Муравьевых для практических занятий.
В 1820 г. при учебном заведении для колонновожатых были учреждены офицерские классы, в которых преподавались: продолжение чистой математики, краткая астрономия, геодезия и краткая военная история. В 1823 г. Н. Н. Муравьев отошел от руководства созданным детищем по причине расстроенного здоровья. Вскоре учебное заведение было переведено в Петербург, где образовалось Училище для колонновожатых. С 1816 по 1823 г. в него поступили около 180 человек. Из них 138 слушателей окончили полный курс и были выпущены офицерами. 127 воспитанников учебного заведения вошли в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.
От столиц не отстает и провинция, научная жизнь которой благодаря университетам становится активной и разнообразной. В конце 1805 г. при Казанском университете открывается Общество любителей отечественной словесности. Учредителями его становятся Н. Ибрагимов, В. и Д. Перевощиковы, П. Кондырев, А. Васильев, Д. Богданов, И. и А. Панаевы, С. Аксаков. Общество преследует широкие просветительные цели, но главное его внимание уделяется российской словесности. До 1810 г. членами общества были только профессора университета и преподаватели гимназии. С этого времени круг членов стал расширяться. В 1818 г. в составе общества уже числились 75 действительных и 25 почетных членов. В 1817 г. вышел в свет первый том «Трудов» общества.
Создание новой системы образования в России сопровождалось новым оживлением педагогических дискуссий о том, каким должно быть воспитание и обучение юношества, каким целям и нравственным идеалам должна служить российская школа. Особую остроту, как и в екатерининскую эпоху, приобрел спор сторонников семейного и общественного воспитания. Ареной этого спора стали многие общественно-политические, литературные и зарождавшиеся отечественные педагогические издания.
Активным защитником общественного воспитания зарекомендовал себя известный литератор и педагог, последователь А. Н. Радищева Василий Васильевич Попугаев (1778—1816). «Общественное воспитание, – писал он в „Периодическом издании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств“ за 1804 г., – должно быть выше воспитания семейного. Даже и тогда, когда бы просвещение было уделом целости народов, семейное воспитание может научить токмо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но никогда совершенными гражданами. Эгоизм, удел всех людей, и может быть не токмо необходимый, но и полезный в некоторых отношениях, будет их всегда отделять от чувства общественности. Ибо люди, воспитанные в семействах, почитают себя обществу ничему не одолженными; привычка к выгодам общественным делает им неприметным благо, неоцененной связью гражданских выгод на них изливаемое: они во всем видят одни условия, уже данные временем, в котором они живут, и нимало не думают, сколько веков и сколько напряжения гениев стоило природе, дабы образовать связь благодетельного сообщества, и потому каким пожертвованием сие каждого обязывает к пользе оного. Одно общественное воспитание, одно такое воспитание, направленное к моральной цели, дает гражданину чувствовать с самого его младенчества, что государственное общество печется о его благе, что оно ему не менее благодетельствует, но еще более чем самые родители, ибо родители показывают ему токмо выгоды семейственные, кои сами основываются на выгодах общественных, в то время когда общественное воспитание показывает ему все назначение, коим он обязан согражданам за те блага, кои соединение их на него изливает».
Идеи «любви к отечеству», «службы любезному отечеству», патриотизма и гражданственности пронизывают и художественную и учебную литературу начала ХIХ в. Они пока что преобладают над идеей человека, уважения к его личности и человеческому достоинству. Личное как бы растворяется в общественном. Но подобная точка зрения, уже достаточно основательно подорванная лучшими представителями художественной школы российского сентиментализма, уже не считается единственно верной и непререкаемой. На защиту человеческой личности встает педагогический журнал писателя карамзинской школы В. В. Измайлова «Патриот», выходивший, правда, всего один год (1804), однако сумевший оставить о себе добрую память в анналах истории отечественного воспитания.
Журнал «Патриот» предназначался в равной мере как для воспитателей и родителей, так и для детей, молодежи. В этих целях он имел четыре специальных раздела: для воспитателей, где помещались статьи по вопросам общественного и семейного воспитания; для детей, в котором печатались детские рассказы и пьесы нравоучительного, исторического и природоведческого характера; для молодых людей, где помещались статьи по вопросам морали, философии, литературы; для всех читателей, где публиковались библиографические заметки о новых книгах и журналах. Журнал активно пропагандировал педагогическое творчество Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Дж. Локка, идеи Ш. Л. Монтескье, И. Канта и других передовых европейских мыслителей.
Придавая особое значение нравственному воспитанию юношества, «Патриот» утверждал, что предметом воспитания является сам человек «независимо от всех положений или в отношении к возрасту, полу, состоянию, или в рассуждении к домашнему или общественному воспитанию». Журнал осуждал «злоупотребление прекраснейших успехов гражданственности». Он утверждал, что «не все старое дурно, не все новое хорошо», рекомендовал своим читателям учиться у предков не только патриотической гордости и народному духу, но и домашним добродетелям, воспитывать у молодежи бодрость души и тела, умение с твердостью превозмогать жизненные бедствия, отражать удары рока и вместе с тем чувство радости жизни.
«Патриот» познакомил русского читателя с творчеством знаменитого швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци (1746—1827). В его творчестве журнал увидел «зарю нового дня для отцов просвещенных и добрых». Развивая педагогические идеи Ж. Ж. Руссо, Песталоцци считал важнейшей задачей воспитания гармоническое развитие природных сил и способностей человека. Сторонник деятельной любви к людям, он придавал исключительное значение проблемам нравственного формирования личности, привитию детям чувства долга, справедливости. Каждый ребенок, утверждал педагог, должен прежде всего осознать себя частью единого и великого человеческого целого. Нравственное воспитание в системе Песталоцци выступало в органической взаимосвязи с физическим и умственным развитием личности. Он призывал осуществлять нравственное воспитание не путем нравоучений, а путем пробуждения у самих детей стремления к нравственным поступкам. Песталоцци внес огромный вклад в создание теории элементарного обучения, способствовавшей развитию в ХIХ в. народной школы не только в Западной Европе, но и в России. Отстаивая идеи соединения обучения с производительным трудом, он считал необходимым расширить круг знаний, даваемых народной школой, учитывать в процессе обучения психологические особенности детей, развивать их логическое мышление.
Многие российские педагоги пушкинской поры были хорошо знакомы с творчеством выдающегося швейцарца, а некоторым из них довелось наглядно ознакомиться с практикой работы созданных Песталоцци школ. Нельзя не отметить и того значительного вклада, который внесли в развитие русской педагогической теории и практики многочисленные ученики и последователи Песталоцци. Среди них особо отметим швейцарского пастора и педагога Иоганна Муральта (1780—1850). Получив богословское образование в Галле, Муральт активно учительствует в одной из основанных Песталоцци школ. В 1810 г. его приглашают в Россию на вакантное место пастора при реформатской церкви в Петербурге. В 1811 г. Муральт открывает в российской столице воспитательный пансион, который вскоре, во многом благодаря личности основателя, а также применявшимся здесь новым воспитательным приемам, приобретает огромную популярность и становится одним из любимых учебных заведений дворянской молодежи.
«Этот пансион, – писал об учебном заведении Муральта известный педагог, историк и географ К. И. Арсеньев, – пользовался тогда необыкновенным уважением и предпочитаем был всем подобным заведениям. И точно он вполне был достоин своей славы по превосходному устройству, и внешнему, и внутреннему, по отличной методе педагогической, по счастливому выбору наставников и воспитателей и по неусыпной деятельности, ловкости и благородному характеру содержателя. Пастор Муральт, ученик Песталоцци, привез в Россию много новых, светлых идей по предмету воспитания юношества и счастливо осуществлял их в своем заведении».
Пансион Муральта просуществовал недолго, однако успел выпустить из своих стен 578 воспитанников. Многие из них впоследствии ярко проявили себя на различных поприщах служения России, хорошо усвоив ведущий принцип своего мудрого наставника: «истинный патриот служит своей родине и своему государю, никогда не отрекаясь от своего человеческого достоинства».
Целеустремленным поклонником педагогической системы Песталоцци был и Василий Андреевич Жуковский, на протяжении многих лет своей жизни активно сочетавший поэтическое творчество с педагогическим [23]. Кстати, это именно ему принадлежит выражение «педагогическая поэма». Этими словами в одном из писем друзьям он характеризовал на склоне лет свои педагогические занятия с детьми по их домашнему обучению и воспитанию. На протяжении четверти века Жуковский был дружен с Мартином Асмусом – педагогом, поэтом и издателем из Дерпта. Пройдя обучение в учительском институте Песталоцци, Асмус организовал в 1811 г. в Дерпте частную школу-пансион по системе знаменитого швейцарца. Жуковский, часто посещавший Дерпт, был хорошо знаком с деятельностью этой школы. Позднее он лично познакомился с Песталоцци, что помогло ему глубже прочувствовать и освоить идеи великого педагога.
Поэтический учитель Пушкина и педагог-наставник будущего царя-освободителя Александра II Жуковский предпринял свои первые шаги на педагогическом поприще в 1805 г., взявшись за обучение рано осиротевших своих племянниц Маши и Саши Протасовых. Их собирательный образ навсегда вошел в русскую культуру благодаря поэме «Светлана». Уже тогда влияние Песталоцци чувствовалось и в самом подходе Жуковского к педагогической деятельности, и в его педагогических воззрениях. Приступая к занятиям с племянницами, Жуковский писал А. П. Киреевской-Елагиной: «Если где нужна метода, то, конечно, в воспитании, ибо здесь каждый шаг, каждая ошибка могут иметь важнейшее следствие на целую жизнь детей». Сохранились дневники поэта тех лет, наглядно позволяющие судить, как подробно и скрупулезно относился он к своим педагогическим обязанностям, как тщательно проводил отбор учебного материала, как глубоко и всесторонне вникал в проблемы дидактики и частных методик.
В качестве учебных предметов для обучения племянниц, уже получивших начальное домашнее образование, Жуковский выбрал историю, философию, изящную словесность и сочинительство. Занятия строились таким образом: утром – история и сочинения, вечером – философия и литература. Сначала приготовительные сведения, потом классика. История (Ремер, Гаттерер, Гиблер). Вспомогательные науки. Философия: предварительные понятия о натуре, о человеке и логика. Классика: теология и нравственность. Словесность: языки. Грамматика общая и риторика. Поэты и прозаисты. Эстетика. Воспитание.
Занятия с племянницами продолжались в течение нескольких лет и имели несомненный успех. Воспитанницы поэта, по свидетельству современников, по уровню своего развития и образованности входили в первый круг женщин пушкинской эпохи. Сам же Жуковский приобрел опыт, который позволил ему впоследствии блестяще выполнить порученные обязанности наставника наследника российского престола.