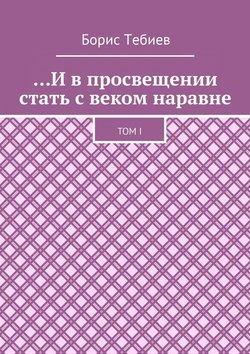Читать книгу …И в просвещении стать с веком наравне. Том I - Борис Константинович Тебиев - Страница 6
…И в просвещении стать с веком наравне:
Педагогические искания и школа пушкинской эпохи
Глава четвертая
«В сгущенной мгле предрассуждений»
ОглавлениеСоюз против науки и просвещения. «Урядники благочиния» и дух свободы. Школа в тисках николаевского режима. Поколение юных фанатиков проповедовало гуманизм и свободу
Царствование Александра I, как и личность самого монарха, названного А.И.Герценом «коронованным Гамлетом», были сотканы из противоречий. У некоторых современников и историков рассматриваемой эпохи даже складывалось впечатление, что на российском престоле тех лет царствовали два абсолютно разных по убеждениям и поступкам человека. В середине 1810-х гг. «дней Александровых прекрасное начало», ознаменованное либеральным реформаторством, сменилось периодом контрреформ и откровенной реакции. Эти перемены были связаны со многими обстоятельствами, и не в последнюю очередь с неприязненным отношением к реформам со стороны консервативного дворянства, обвинявшего внука Екатерины Великой в непонимании серьезной опасности, которую якобы несло в себе реформаторство для абсолютизма и существенных интересов дворянского сословия.
Блестящий знаток пушкинской эпохи Н. К. Пиксанов, характеризуя обстановку тех лет, отмечал, что абсолютное большинство российских дворян было глубоко удовлетворено сложившимся в ХVIII в. строем дворянской монархии. «Освобожденное от обязанностей государственной службы, обеспеченное крепостным трудом, заботливо окруженное сословными привилегиями, среднее и провинциальное дворянство желало только некоторых улучшений административного механизма и совершенно основательно боялось всяких «конституциев». Стремясь сохранить стремительно рушившиеся под смелыми проектами М. М. Сперанского мосты между верховной властью и дворянской оппозицией, защитник российской государственности Н. М. Карамзин в поданой царю в 1811 г. «Записке о древней и новой России» взял на себя труд уверить государя в том, что одна из главных причин «неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основы империи и коих благотворность остается доселе сомнительною». Общий смысл «Записки» сводился к тому, что Россию еще рано реформировать, страна еще не созрела для этого. Россию сначала необходимо просветить в самом широком смысле этого слова, Россию необходимо нравственно подготовить к реформированию. При этом Карамзин сетовал на отсутствие в стране «хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни». Нужно сохранить «патриархальную власть», утверждал историограф, приводя при этом многочисленные логические доводы. Он верил в то, что опорой этой власти могут стать 50 умных и добросовестных губернаторов, ревностно блюдущих вверенное каждому из них благо подданных Российской империи.
Однако если для Карамзина, активного просветителя России и гуманиста, вопрос стоял лишь о сроках реформирования, то для многих иных критиков реформаторского курса вопрос стоял иначе: реформы неприемлемы в принципе, никакие. Поэтому «сомнительными» для консервативных защитников дворянских интересов казались проводившиеся и планировавшиеся преобразования не только в сфере государственного устройства, но и в области народного просвещения.
Образовательные реформы 1804 г. вызывали нескончаемый поток критики «справа». Главным объектом этой критики являлся гуманистический принцип всесословности образования. Одним из противников этого принципа был И. И. Мартынов, бывший преподаватель истории и словесности, затем директор департамента народного просвещения, одновременно – издатель журналов «Северный Вестник» (1804—1805) и «Лицей» (1806). Благосклонно в целом оценивая правительственное реформаторство, Мартынов тем не менее полагал, что каждое сословие должно получать образование по своей особой программе. Крестьяне могут получить только такие познания, которые необходимы в их хозяйстве: «поправить соху, употребить простое механическое средство к уменьшению числа рук в работе есть для него неоценимое приобретение». «Но поселянин должен пользоваться только практическим приведением в действие и выгодою изобретения: изучение же ведущих к тому математических истин, сопряженное с многочисленными предварительными сведениями, не должно лишать его времени, столь нужного для возделывания земли. Вообще, всякий человек, снискивающий себе пропитание тяжелой работой, выходит из своего состояния, если возбуждается в нем наклонность к умственным упражнениям». «Северный Вестник» с сочувствием отнесся к книге Гельмана, где задачи народного просвещения понимались так: «Не все состояния народа должны получать одинаковое просвещение. Науки, так называемые свободные художества, и все те наставления, которые составляют воспитание человека государственного, совсем неприличны для черни и даже вредны в отношении к общественному благоденствию. Сохрани нас Бог, если весь народ будет состоять из ученых, диалектиков, замысловатых голов».
В другой публикации, посвященной опыту Великобритании, «Северный Вестник» призывал «положить конец пагубному размножению дворянства», обогатить аристократию казенными землями, обособить и замкнуть от вторжения иносословных элементов. Дети всякого чиновника, отмечал журнал, не имея возможности претендовать на вступление в дворянское сословие, «не нашли бы другого средства отличить себя от простолюдинов, как через науки, изящные искусства и художества». Журнал желал видеть Россию по примеру Англии страной с гражданскими учреждениями, упорядоченными законами, улучшенным народным образованием и… могучей кастой пэров.
Масла в огонь подливали и французские аристократы-эмигранты, наводнившие в те годы Россию и мечтавшие с помощью русских штыков освободить Францию от «тирании Наполеона». Одним из них был граф Жозеф де-Местр, талантливый публицист и адепт монархизма, обосновавшийся в Петербурге в качестве посланника лишенного владений сардинского короля. Установив дружеские отношения с министром просвещения А. К. Разумовским, он получил доступ ко двору и, пользуясь этим, развернул разнузданную пропаганду против просвещения. В изданном в 1811 г. сочинении «Quatre chapitres sur la Russie» он доказывал, что распространение наук в России должно быть остановлено. Для этого рекомендовалось объявить, что научное образование не составляет необходимости для занятия какой-либо гражданской или общественной должности и что следует требовать знаний только для специальных должностей (например, математики для инженеров). Автор ратовал за отмену преподавания наук, которые могли быть толкуемы «по личным вкусам и наклонностям». К ним он относил историю, географию, метафизику, мораль, политику, коммерцию и некоторые другие науки. Ж. де-Местр рекомендовал, кроме того, не поощрять распространение знаний в среде низших классов общества, а всячески пресекать «невежественное или опасное рвение к подобного рода деятельности».
Окончательный разрыв с конституционной Францией, приведший к Отечественной войне 1812 г., сопровождался решительными попытками российских консерваторов ниспровергнуть «самый крепкий», по словам Ж. П. Бриссо, «монумент Французской революции» – ее философию, вытравить из сознания мыслящих россиян идейное наследие эпохи Просвещения растущей проповедью религии и мистицизма.
О смятении, охватившем в те годы чиновников учебного ведомства, писал в письме к знаменитому прусскому реформатору барону Штейну тогдашний попечитель Петербургского учебного округа, будущий министр и создатель теории официальной народности С. С. Уваров: «Состояние умов теперь таково, что путаница мысли не имеет пределов. Одни хотят просвещения неопасного, т.е. огня, который бы не жег; другие (а их всего более) кидают в одну кучу Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги, Моро и Розенкампфа, бредни Ш… и открытие Лейбница; словом, это такой хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких преувеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо: религия в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, иллюминат, философ, франкмасон, фанатик и т.п.; словом – полное безумие. Каждую минуту рискуешь компрометироваться или сделаться исполнительным орудием самых преувеличенных страстей. Вот среди какого глубокого невежества находишься вынужденным работать над зданием, подкопанным у основания и со всех сторон близким к падению».
Окончательно разгромив Наполеона и восстановив на французском троне династию Бурбонов, европейские монархи создали в 1815 г. «Священный союз» – военно-политическое объединение, призванное не допустить впредь коллизий, подобных Великой Французской революции. Идя на поводу у махровых консерваторов, участники «Священного союза» взяли курс на снижение образовательного значения школы и увеличение элементов религиозно-нравственного воспитания, стремясь противопоставить французскому «материалистическому безбожию» авторитет религии. Что касается России, то ее правители испытывали, по словам В. О. Ключевского, двойной страх: вольного духа и народа, героически проявившего себя в войне с Наполеоном, но так и не обретшего гражданской свободы.
Создание «Священного союза» привело к идее унификации образовательных структур европейских монархических государств. Для России в конечном итоге это вылилось в переориентацию всей системы образования с передовой и динамичной французской модели на отсталую и консервативную прусскую.
Наступление реакции означало смену образовательной парадигмы. Вместо провозглашенного в начале века принципа «образование народа основывается на свободной науке» пришел новый принцип – «основать народное образование на благочестии». В целях его реализации участниками «Священного союза» было принято решение об объединении ведомств просвещения с духовными ведомствами в рамках единых министерств, концентрирующих в своих руках все вопросы духовной жизни в монархиях, позволяющих осуществлять единую государственную идеологию и тотальный контроль за умонастроениями обывателей.
Высочайше утвержденный 24 октября 1817 г. Александром I манифест провозглашал создание в России нового учреждения – Министерства духовных дел и народного просвещения, объединившего под одной крышей Святейший Cинод, Управление иностранными исповеданиями и Министерство народного просвещения. «Желая, чтобы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения, – говорилось в манифесте, – признали мы полезным соединить дела по Министерству народного просвещения с делами всех вероисповеданий в составе одного управления под названием Министерства духовных дел и народного просвещения. Само собой разумеется, что к оному присовокупляются и дела Святейшего правительствующего Cинода с тем, чтобы министр духовных дел и народного просвещения находился по делам сим в таком точно к Синоду отношении, в каковом состоит министр юстиции к Правительствующему Cенату, кроме, однако же, дел судных».
Во главе нового учреждения стал князь Александр Николаевич Голицын (1773—1844), уже занимавший с 1816 г., после отставки графа А.К.Разумовского, пост министра просвещения, а до этого (с 1803 г.) являвший синодальным обер-прокурором. А. Н. Голицин являлся одной из колоритнейших фигур александровской эпохи. Воспитанный при дворе Екатерины, он был участником детских игр будущего императора Александра I и его брата Константина, затем заслужил репутацию остроумного и ловкого придворного кавалера. При Павле I А. Н. Голицын впал в немилость и даже был выслан из Петербурга. Его служебный взлет произошел уже при Александре I. Типичный вольнодумец екатерининской эпохи, с легкомыслием относившийся к религиозным вопросам, заняв ответственный государственный пост обер-прокурора Синода, он резко изменил свои убеждения и образ жизни, проникся религиозным мистицизмом. Именно А. Н. Голицын стал инициатором создания в России в 1812—1814 гг. Библейского общества, весьма ревниво встреченного официальным православием и стоившего ему впоследствии, в 1824 г., церковной анафемы и карьеры министра.
При объединенном министерстве зарождается и крепнет новое охранительно-идеологическое учреждение – Ученый комитет, снискавшее себе вскоре печальную известность гонителя свободомыслия. Инструкция, данная правительством Ученому комитету, возлагает на него важную идеологическую миссию: направлять народное воспитание посредством учебных книг к «постоянному и спасительному согласию между верою, ведением и властью». Комитету вменяется в обязанность пересматривать все «стихийные книги» и «отметать» в них все то, что ему покажется «произвольным умствованием, несовместимым с повиновением верховной и духовной власти», как, например, теория естественного права или учение о происхождении верховной власти не от Бога. В естественных науках комитет обязывается устранять все «суетные догадки о происхождении и переворотах земного шара». Даже по отношению к медицинским книгам он должен наблюдать, чтобы в них не вкралось учение, «низвергающее духовный сан человека».
Состав этого «питомника просвещенных борцов против просвещения» вполне соответствовал его назначению. В комитет вошли, например, такие представители дворянской реакции как прусский выходец граф И. С. Лаваль и сын молдавского правителя, чиновник Министерства иностранных дел камер-юнкер А. С. Струдза, названный Пушкиным в одной из эпиграмм «холопом венчанного солдата».
Важным средством борьбы дворянских реакционеров против французской рационалистической философии и «пагубной системы энциклопедического образования» стала практическая реализация в масштабах империи начатого С. С. Уваровым еще в 1811 г. на базе Петербургской гимназии эксперимента по преобразованию гимназического курса на началах классицизма. Подвергая ревизии поставленные Уставом 1804 г. перед гимназическим образованием задачи, С. С. Уваров утверждал, что целью гимназии должна быть исключительно подготовка к университету. Подобная постановка вопроса не только значительно сужала образовательные задачи гимназии, но и вела к усилению сословности в области среднего образования. Перекраивая гимназический курс, С. С. Уваров под предлогом многопредметности предлагал исключить из него политическую экономию, коммерческие науки, финансы, эстетику, философскую грамматику, вдвое сократить курс естественных наук и технологии. Вместо этого в учебный план вводились ранее отсутствовавшие в нем Закон Божий и греческий язык. С 1819 г. по этому принципу начали постепенно перестраиваться все действовавшие в стране гимназии.
В том же 1819 г. была введена плата за обучение. Эта мера коснулась не только гимназий, но и уездных и даже приходских училищ, что значительно затруднило доступ во многие из них для детей податных сословий. Размер платы за обучение определялся «местными обстоятельствами». Формальным поводом к этому явилась нехватка правительственных средств на жалование учителям, что вызывало большую текучесть педагогических кадров.
Смена образовательной парадигмы сопровождалась ревностным гонением не только на французскую, но и на всю европейскую науку, в том числе на философию Канта, Фихте и Шеллинга, в которой усматривалось обоснование «разрушительных начал», вытеснением с преподавательских кафедр и жестоким преследованием гуманистов-просветителей, среди которых, как отмечалось выше, были и некоторые профессора Царскосельского лицея.
В 1816 г. был выдворен за границу «за приверженность философской системе Шеллинга» один из лучших профессоров Харьковского университета И.Б.Шад. Обвинялся в безбожии и терпел гонения профессор И. Т. Буле, учитель А. С. Грибоедова.
Новый импульс гонения на передовую науку и общественную мысль получили в связи с решениями состоявшейся в 1819 г. в Карлсбаде конференции немецких государств, обсудившей меры борьбы с революционным движением и принявшей резолюцию о введении строгой цензуры и чрезвычайных мер по отношению к учебным заведениям. Участвовавший в работе конференции как представитель России Струдза составил записку о современном положении в Германии, в которой отметил особенно негативную роль германских университетов в возбуждении общественного порядка в Европе. Струдза писал, что университетская молодежь, отвергая спасительную власть закона, предается всякого рода крайностям. Профессора медицины думают своим анатомическим ножом проникнуть в святилище души. Профессора-юристы проповедуют право сильного. Для оздоровления университетов автор признавал необходимым уничтожить все привилегии, присвоенные университетам еще в эпоху Средних веков, подчинить студентов городской полиции, ввести твердый учебный план с устранением права студентов делать выбор преподаваемых наук, ликвидировать права университетских советов выбирать профессоров и преподавателей на вакантные должности.
В соответствии с духом и буквой договора о «Священном союзе» российские ревнители монархического просвещения не только активно поддержали карлсбадскую резолюцию, но и незамедлительно приступили к ее практической реализации. Особое усердие при этом было проявлено попечителем Казанского учебного округа М. Л. Магницким и попечителем Петербургского учебного округа Д. П. Руничем.
Личность Магницкого – зеркальное отражение противоречий александровской эпохи. Сотрудник М. М. Сперанского в комиссии по составлению законов и в Государственной канцелярии, проведший вместе с ним в опале несколько лет, заняв пост самарского гражданского губернатора, а затем члена Главного правления училищ, он с завидным усердием воспринял новые ультраконсервативные веяния и включился в работу по их практической реализации. Назначенный в 1819 г. ревизором Казанского университета Магницкий по итогам этой ревизии обратился к императору с кощунственным проектом уничтожения этого «рассадника неверия» «в виде публичного его разрушения». Неся явный бред, ретивый обскурант полагал, что «столь решительный акт, без всякого сомнения, заставит все европейские правительства обратить особое их внимание на их систему учебного просвещения, которая, сбросив покрывало философии, стоит уже посреди Европы с поднятым кинжалом…».
Совершить столь безумный поступок император, конечно же, не решился. Однако же он не встал и на защиту университета, назначив Магницкого попечителем Казанского учебного округа и директором университета и предоставив ему полную свободу действий по реорганизации учебного заведения. Почти семилетнее правление Магницкого, как показали материалы правительственной проверки 1826 г, привело Казанский университет в полнейшее запустение, нанесло ему непоправимый моральный и материальный ущерб. Искореняя вольнодумство и «основывая преподавание всех наук на благочестии», Магницкий уволил из университета 11 лучших профессоров, оставшиеся же профессора всех факультетов и кафедр, не исключая медицинских, были обязаны проповедовать преимущества Священного Писания над наукой и усердно бороться против «всеразрушающего вольнодумства». Жизнь университетских студентов была подчинена строжайшим правилам монастырской дисциплины и наполнена, согласно рапортам самого Магницкого, «упражнениями в благочестии».
Не менее знаковой фигурой оказался и другой «урядник благочестия», как называл подобных людей Радищев, – попечитель Петербургского учебного округа Рунич. Он во всем следовал за Магницким и самозабвенно фабриковал скандальные дела против известных петербургских педагогов и ученых. Так, основанием для обвинения в пропаганде идей, противных «началам христианским и монархическим», профессора К. Ф. Германа послужило то, что в своих записках к лекциям он доказывал вред чрезмерного выпуска ассигнаций, давал положительную оценку представительному правлению, при котором «каждый вольный житель повинуется закону по своему на оный согласию… и в полном смысле слова может сказать: я человек». Преподаватель естественного права М. Г. Плисов был уволен по доносу Рунича министру, в котором говорилось: «Хотя в тетрадках Плисова не найдено ничего предосудительного, но это самое и доказывает, что он человек вредный, ибо при устном преподавании мог прибавлять, что ему вздумается».
Петербургские профессора К. И. Арсеньев, Э. В. Раупах и А. И. Галич были обвинены в том, что «философские науки преподают в университете в духе, противном христианству, и в умах студентов вкореняют идеи, разрушительные для общественного порядка и благосостояния».
Государственная карьера идейных борцов с вольнодумством оказалась, к счастью для российского просвещения, непродолжительной. Дорвавшись до власти и денег, и Магницкий, и Рунич запятнали себя финансовыми злоупотреблениями и были с позором отрешены от всех занимаемых должностей. Однако реакция с их уходом не прекратилась. На смену старым «моралистам» приходили новые ревнители благочестия, во многом повторяя «тернистый путь» своих предшественников. Чего стоило, например, последовавшее в 1830 г. решение попечителя Харьковского учебного округа назначить руководителем кафедры философии Харьковского университета… частного пристава.
Наряду с высшей школой в период реакции пострадали и низшие звенья системы образования. Разосланное в 1819 г. в учебные заведения страны циркулярное предложение Главного правления училищ о предметах преподавания в гимназиях, уездных и приходских училищах, обращало особое внимание учебной администрации на религиозно-нравственное обучение и воспитание детей и юношества. Именно на основании этого документа была подвергнута запрету столь популярная с екатерининских времен и выдержавшая 11 изданий книга «О должностях человека и гражданина». Ее было приказано изъять из школьных библиотек и продать по 50 копеек за пуд бумажному фабриканту «с тем, чтобы никому оных не раздавать, а употреблять единственно на бумажную мельницу». Место книги «О должностях человека и гражданина» в учебном процессе занял «Сокращенный катехизис» митрополита Филарета.
Казалось, что прекрасное время российского просветительства, бурное и полное неподдельного энтузиазма, ушло навсегда, кануло в Лету. Но это не так. Россия уже втянулась во вкус образования, почувствовала его выгоды и преобразующее жизнь значение. Ежегодно и в столичных городах, и в некогда глухой провинции продолжали открываться новые школы, за парты которых садились те, кому предстояло в недалеком будущем создать в России совершенно уникальную по своим социальным качествам прослойку российского общества – разночинную интеллигенцию. Парадоксально, но факт: несмотря на общее неблагополучие, даже официальная, подцензурная властям и церкви школа подчас весьма неплохо справлялась со своими общегуманистическими, неформально-просветительскими задачами.
Один из создателей отечественной исторической романистики, писатель И. И. Лажечников (1792—1869), служивший в двадцатые годы директором училищ Пензенской губернии, оставил интересные воспоминания о своем посещении Чембарского уездного училища и совершенно случайной тогда встрече с 12-летним сыном уездного штаб-лекаря Виссарионом Белинским. Это произошло на экзамене, во время которого и ученик Белинский, и его наставник показали себя самым блестящим образом. «Смотрел он очень серьезно… – вспоминает о Белинском Лажечников. – На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такой уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком), и отвечал большей частью своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве. Доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывною цепью, и, признаюсь, старался сбить его… Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило, также и то, что штатный смотритель не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся немало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное свое».
В эти годы в России, как и в других европейских странах, получила распространение английская система взаимного обучения Ланкастера и Белла. В 1816 г. для изучения этой системы в Англию были специально командированы четыре студента Главного педагогического института. После их возвращения в 1819 г. Главное правление училищ признало, что ланкастерский метод можно применять и в России при условии его адаптации «согласно с духом народа». В том же году возник ряд общественных организаций, ставивших своей целью распространение в России ланкастерского метода обучения. Среди них Общество для заведения училищ по методу взаимного обучения и Петербургское Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. Последнее было создано при активном участии будущих декабристов – членов Союза благоденствия. Председателем Вольного общества стал граф Ф. П. Толстой, его заместителем – Ф. Н. Глинка, секретарем – В. К. Кюхельбекер.
Придавая исключительно важное значение распространению грамотности в народе, будущие декабристы собрали солидные денежные суммы для организации ланкастерских школ. Одна из первых таких школ была открыта в июне 1819 г. в одном из бедных районов Петербурга. Школа эта действовала вплоть до ноября 1825 г. Уже в первый год работы в нее записались 412 детей из беднейших сословий, в том числе и крепостных. Выпущенные по итогам первого года работы школы «Известия» отмечали, что из 147 учеников, окончивших школу за этот год, 10 вступили в действительную гражданскую службу, 12 – в военное ведомство, 12 – в сельские наставники по методу взаимного обучения, 25 – в другие должности, 12 – в пансионы, 1 – в кадетский корпус, 1 – в горный корпус, 2 – в Петербургскую гимназию, 4 – в училище Человеколюбивого общества, 1 – в театральное училище. Во второй год обучения в школу поступили еще 350 воспитанников. Эту школу организаторы считали образцом постановки начального образования для народа и поэтому проявляли немалую заботу не только о совершенствовании учебно-воспитательного процесса, но и о пропаганде опыта его организации. Здесь обучали чтению и письму, начальной арифметике, грамматике, географии и истории. Ряд предметов преподавался по ланкастерской системе, другие – по традиционной школьной. К 1820 г. в России действовало более 60 ланкастерских школ, дававших своим воспитанникам «нравственные начала» и «элементарные знания».
В первой трети ХIХ столетия в России уже сложилась пусть еще незначительная, но весьма символическая прослойка дворян, ставших организаторами в своих поместьях народных школ. Наряду с крепостными театрами (а их в России было около 170) отдельные представители дворянства считали для себя престижным заводить крестьянские школы и обучать «на европейский манер» детей своих крепостных. При этом далеко не всегда дворяне руководствовались альтруистическими побуждениями. Во многих случаях открытие крестьянских школ в поместьях было связано с потребностями крепостного хозяйства в расторопных слугах, искусных мастерах, музыкантах, артистах. Именно такой характер носили крестьянские школы в имениях крупнейших дворянских фамилий – Шереметевых, Голицыных, Юсуповых, Орловых, Румянцевых, Муравьевых. Втягиваясь в заботу об улучшении своего хозяйства, дворянство вкладывало средства в обучение крепостных, надеясь окупить свои затраты с лихвой высококвалифицированным трудом обученных крестьян. Образованный крепостной к тому же дороже ценился. Отпущенный на оброк, он мог принести большой доход владельцу. Однако история отечественной школы знает и другие примеры. В 1805 г. в подмосковном имении князя В. В. Измайлова была открыта школа для крестьянских детей, где сам князь пытался реализовать на практике педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо. Широкую известность получила школа для крестьянских детей в усадьбе князя А. А. Ширинского-Шихматова в Смоленской губернии. Владелец имения в течение более чем тридцати лет (с 1818 по 1849 г.) самостоятельно обучал грамоте крестьянских детей и их родителей.
Определенные успехи в развитии российской экономики способствовали становлению в стране начального профессионального образования – сельскохозяйственного, промышленного, торгового. Первая в России сельскохозяйственная школа была открыта под Павловском близ Петербурга еще в 1797 г. тестем будущего директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского А. А. Самборским. Она просуществовала до 1803 г.
Примечательным событием в культурной жизни России стало открытие в 1824 г. графиней Софьей Владимировной Строгановой (урожденной Голицыной) профессиональной школы, имевшей целью, как тогда говорили, «доставить крепостным молодым людям образование по части сельского хозяйства, горных дел и ремесел». Создательница школы, вдова генерала П. А. Строганова, ученика якобинца Ж. Ромма и участника наполеоновских войн, была одной из образованнейших женщин России своего времени. Ее петербургский салон и картинную галерею посещали многие российские и европейские знаменитости, в том числе и А. С. Пушкин. Поэт хорошо знал историю этой семьи и в одной из строф VI главы «Евгения Онегина», не вошедших в окончательный текст романа, воспел П. А. Строганова и его единственного сына Александра, героически погибшего в 1814 г. в бою под Краоном на глазах отца.
Строгановская школа состояла из двух отделений – теоретического в Петербурге и практического в Мариинском имении учредительницы в Новгородской губернии. Школа пользовалась поддержкой Вольного экономического общества и просуществовала до 1844 г. В нее принимались ученики, уже имевшие образование в объеме приходского училища. Школа отличалась обширной учебной программой. Ее курс в зависимости от специализации учащихся подразделялся на разряды. Основное внимание уделялось преподаванию технических дисциплин, для чего были приглашены профессора университета, Горного кадетского корпуса и других учебных заведений. Содержание школы стоило графине Строгановой 1.300.000 рублей. И эти огромные по тем временам средства не были потрачены напрасно. Школа не только подготовила сотни высококвалифицированных специалистов, но и заложила научно-методические основы отечественного сельскохозяйственного профессионального образования.
Полезную активность в распространении народной грамотности проявляло и Библейское общество, ставившее своей целью пропаганду в России Священного Писания. Члены общества обращали особое внимание на приходские училища, которые рассматривались как важный канал распространения Библии в народе. В 1822 г. было решено допустить применение ланкастерской системы в приходских училищах для обучения чтению, письму и арифметике. Однако широких последствий для начального народного образования эта мера не имела, поскольку в целом по стране действовали всего немногим более трехсот приходских училищ. Их количество росло слабо. В год открывались не более 10 – 15 приходских школ.
Существенный вклад в осознание россиянами созидательной и преобразующей роли образования как для личностного роста, так и для успехов экономического и социально-культурного развития страны внесли будущие декабристы, участники тайных революционных обществ и организаций. Разрабатывая планы свержения монархии и будущего устройства России, они мечтали о том, чтобы «посадить на трон богиню просвещения». На вопрос следственной комиссии «Какая причина предшествовала и родила мысль основания в России тайных обществ?» декабрист князь Федор Шаховской прямо заявил, что «видимая причина, предшествовавшая мысли основания сего сообщества, была стремление умов к споспешествованию Правительства, открывшего пути просвещения учреждением полезных учебных и человеколюбивых заведений. Успехи, сделанные Россией в последнее Царствование, возвели ее на чреду славы образованных держав. – Но благотворное влияние просвещения сосредоточилось вблизи столиц и сделалось уделом вышнего класса; между тем как внутри все почти покрыто мраком. Многосложный политический состав России, требуя великое число чиновников, заставляет чувствовать сей недостаток и имеет пагубное влияние на правосудие и ход судебных дел, что после особенно замечено мною из опытов в течение 4-х летней деревенской жизни. Мысль сему поборствовать всеми силами была также основною обязанностью членов Союза Благоденствия» [27].
Заслуга декабристов перед отечественным образованием не исчерпывалась созданием ланкастерских школ и критикой антипросветительной политики правительства. Главным их вкладом в отечественную педагогику была разработка принципов воспитания нового человека, сына отечества, гражданина-патриота, широко образованного, деятельного, способного активно служить своему народу. Являясь подлинными новаторами мысли, декабристы раньше и лучше многих других своих современников предвидели те перемены, которым предстояло свершиться в общественных отношениях. Новый человек должен был находиться в центре этих перемен. Для того чтобы быть равноправным членом общества, с детских лет он должен получить соответствующее умственное образование. Такое образование позволит ученику в дальнейшем сделать главным источником пополнения своих знаний самостоятельные наблюдения. Искусство преподавания, по мнению многих декабристов, должно сводиться к тому, чтобы возбудить самостоятельное мышление ученика. С этой целью в школах должно вводиться наглядное преподавание, призванное стимулировать и развивать самостоятельную умственную деятельность детей и подростков. Декабристы выступали за воспитывающий характер обучения, придавая при этом исключительно важное значение личности учителя. В одном из программных документов декабристов – «Русской правде» П. И. Пестеля предлагалось учредить в каждом губернском городе педагогический институт. Первыми их студентами должны были стать воспитанники военно-сиротских отделений, которых декабристы обучали в своих ланкастерских школах.
В будущем Российском государстве образование, по мнению декабристов, должно быть всеобщим и доступным для всех граждан, организованным за государственный счет. Основой всей системы образования они видели начальную общеобразовательную школу, где в числе основных предметов значились бы родной язык и математика и наряду с ними отечественная литература и история. Принимая активное участие в деятельности школ Вольного общества, декабристы внесли немало полезного в практику обучения и воспитания учащихся. В 1818—1819 гг. впервые в мировой педагогике на уроках математики были применены стоячие счеты («счетные машинки», как их тогда называли). Через школы Вольного общества это дидактическое изобретение приобрело широкую известность и служило превосходным средством к облегчению первоначального обучения математике. Большой интерес представляли и разработанные декабристами дидактические материалы для обучения русскому языку. Многие участники тайных обществ считали преподавание родного языка важнейшим средством воспитания истинных патриотов. «Язык заключает в себе все то, что соединяет человека с обществом, – писал в 1820 г. в журнале „Сын Отечества“ член Союза благоденствия Н. И. Кутузов, – самые малейшие его оттенки сильно говорят сердцу патриота и чужды рабу иноземного. Язык сближает чувства людей, совокупляет понятия воедино, рождает благородное соревнование, дает силы… Совершенством языка познается величие народов… Незнание богатства языка своего и пренебрежением оным есть знак самого грубого невежества».
Огромное воспитательное значение придавали декабристы урокам отечественной истории. Именно история, по их мнению, способна пробудить у молодежи чувство национальной гордости и гражданское сознание. При этом некоторые участники тайных обществ серьезно занимались вопросами методики преподавания истории. В этом отношении интересна статья декабриста П. Д. Черевина «О преподавании истории детям», опубликованная в январско-февральской книжке журнала «Вестник Европы» за 1825 г. Провозглашая историю «наставницею нравственности и политики», дающей представление о правах человека и гражданина, автор статьи отмечал, что преподаватель истории «должен быть нравственности строгой, глубокого учения в науках государственных, одаренный пламенною душой и тем красноречием, которое умело бы перелить в слушателей негодование к пороку и почтение к доблестям мужей знаменитых… Учитель истории есть более чем учитель; он есть проповедник, назидающий гибкий юношеский возраст примерами прошедшего».
Мнения декабристов о необходимости развития в России народного образования, о создании массовой народной школы поддерживали многие прогрессивные общественные деятели эпохи, не связанные с этим движением, но хорошо понимавшие значение просвещения для исторических судеб страны. К их числу относился крупный русский экономист и горячий патриот Отечества адмирал Российского флота и председатель Вольного экономического общества граф Николай Семенович Мордвинов (1754—1845). В одной из своих работ, посвященных развитию отечественной промышленности и торговли, он писал: «Народное просвещение не состоит в одних учебных заведениях; не составляют оного одни профессора или ученость некоторых токмо сословий. Гишпания и Португалия имеют свои университеты, академии, гимназии и огромные книгохранилища; славятся сочинителями знаменитыми; проповедниками красноречивыми, законоведцами искусными; но далеко отстоят они от других европейских народов, и сие потому, что лучи просвещения не распространяются по всему лицу их земель, но действуют токмо в ограниченном круге. Величайшая часть народа находится там в невежестве, праздности и нищете. Опыты и открытия разума не озаряют труда рук, не способствуют к усовершению производимого оными; науки не распространяют благотворного своего содействия ни на землепашество, ни на рукоделия, ни на какую народную промышленность. Наименование просвещенного народа принадлежит такому токмо, в котором каждое сословие имеет свою удельную часть искусства и знаний, потребных к приведению упражнений и трудов его в совершенство, могущих доставить ему благосостояние частное и устроить в полной мере общее благоденствие» [28].
Разгром Николаем I движения декабристов имел для отечественной системы образования весьма серьезные негативные последствия. Многочисленные дознания по делам участников восстания на Сенатской площади показали, что многие из них были всерьез увлечены идеями французского Просвещения, с раннего детства знакомы с произведениями европейских мыслителей, получили вольное образование в дворянских пансионах. В Манифесте 13 июля 1826 г., объявлявшем приговор декабристам, в качестве главной причины «своевольства мыслей», «порчи нравов и погибели» участников восстания назывались недостатки в воспитании. Здесь же содержался призыв к россиянам «обратить все их внимание на нравственное воспитание детей». Это был сигнал консерваторам от педагогики учить детей преклонять колени и публично каяться.
В качестве превентивной меры от «горестных происшествий, смутивших покой России», и «от дерзновенных мечтаний» Николаем I и его окружением были задуманы новые образовательные реформы. Их разработка была поручена особому Комитету устройства учебных заведений, созданному на следующий же день после издания манифеста, рескриптом 14 мая 1826 г., под председательством министра просвещения А. С. Шишкова и с участием С. С. Уварова. В данной комитету директиве предписывалось в качестве кардинальной меры «без всякого отлагательства» ввести единообразие в учебную систему, дабы воспретить «всякие произвольные преподавания учений, по произвольным книгам и тетрадям».
Впрочем, разработка новой образовательной политики началась еще в последний год царствования Александра I, с назначением на пост руководителя заново реформированного Министерства народного просвещения престарелого адмирала Шишкова, посредственного литератора, крайнего националиста и страстного противника французского «вольномыслия». Свою деятельность новый министр начал с печально знаменитой речи «Об „истинном просвещении“ народных масс». В ней он утверждал, что главная задача учебного ведомства состоит в том, чтобы оберегать юношество от увлечения «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостию и пагубным самолюбием». Предлагая ограничить преподавание «наук, изощряющих ум», и построить образование на «вере и нравственности», новоиспеченный глава учебного ведомства в конечном итоге договорился до того, что «обучать грамоте весь народ или несоразмерное число оного количества людей принесло бы более вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в риторике – было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным гражданином».
В том же году Шишковым были подготовлены предложения по разработке «нового плана народного просвещения», который должен был базироваться на следующих основаниях:
«I. Воспитание народное во всей империи нашей, несмотря на разность вер, ниже языков, должно быть русское.
II. Греко-католик, римско-католик и лютеранин должны быть воспитаны: первый – в твердом и незыблемом православии, а второй и третий – во всей точности положительного исповедания своей веры.
III. Все иноверное российское юношество должно учиться нашему языку и знать его. Оно должно преимущественно изучать нашу историю и законы.
IV. Все науки должны быть очищены от всяких не принадлежащих к ним и вредных умствований.
V. Излишнее множество и великое разнообразие учебных предметов должно быть благоразумно ограничено и сосредоточено: во-первых, в тех познаниях, кои самым учреждением разных учебных заведений постановлены, и, во-вторых, сообразно с званиями, к которым учащиеся предназначаются.
VI. Язык греческий должен везде, кроме училищ иноверных, иметь преимущество пред латинским.
VII. Не должно терять из вида, особенно того, что одно обучение не есть воспитание и даже вредно без возделания нравственности, которой христианину вне церкви нигде найти не можно; что государь и польза отечества требуют от воспитания юношества верных сынов церкви и верных подданных, людей, преданных Богу и царю, и что в сем только смысле человек просвещенный должен быть почтен благовоспитанным».
Возможность начать практическую работу в данном направлении появилась сразу же после вступления на престол Николая I. Однако новый самодержец не спешил принимать окончательного решения и, по всей видимости, стремился заручиться в своем реформаторстве не только поддержкой учебного ведомства, но и в известной мере общественным мнением. Подтверждением этого может служить обращение царя через шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа к ряду известных в России людей с просьбой высказать свое мнение о воспитании и образовании юношества. В число таких людей наряду с начальником южных военных поселений, руководителем политического сыска на юге России графом И. О. Виттом, проправительственным журналистом и писателем Ф. В. Булгариным и некоторыми другими лицами был включен и опальный А. С. Пушкин.
30 сентября 1826 г. А. Х. Бенкендорф писал Пушкину: «Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения: предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».
В ноябре 1826 г. в Михайловском Пушкиным была написана и отправлена царю записка «О народном воспитании». Этот интереснейший документ, вышедший из-под пера поэта, довольно часто комментировался пушкинистами и почти полностью проигнорирован историками отечественной школы. А зря! В нем перед нами встает особый Пушкин – истый защитник просвещения, утверждавший, что только оно одно «в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия», глубочайший знаток бытовавшей в России системы воспитания – и семейного, и общественного. В числе причин, породивших «последние происшествия», т.е. восстание 14 декабря, Пушкин без боязни называет вторую половину царствования Александра I с ее бессмысленными цензурными гонениями на передовую науку и литературу, а также бытующую с петровских времен пагубную страсть русского дворянства к скороспелым чинам, погоня за которыми не оставляет времени и места для серьезного занятия науками, безнравственность домашнего воспитания в дворянских семьях, где «ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести». Нетрудно заметить, что, осуждая «домашнее воспитание», Пушкин прежде всего осуждает крепостнические порядки, царящие в стране, а требуя «подавить воспитание частное», ратует за правильную и широкую постановку воспитания общественного, гражданского, способного удовлетворить насущные потребности в знании всего народа.
События 14 декабря, по всей видимости, пробудили в некоторых близких к императору кругах блаженной памяти Павла I идеи запрета обучения российских подданных в европейских университетах. Пушкин весьма болезненно реагирует на это обстоятельство. Говоря о том, что запрещать воспитание заграничное «нет никакой необходимости», он приводит два весьма существенных довода: во-первых, позволением учиться за границей станут пользоваться немногие, «довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним» (т.е. правильная постановка высшего образования в условиях России исключит необходимость получать заграничное образование), и, во-вторых, «воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархального». В качестве аргумента, подтверждающего последнюю мысль, Пушкин приводит пример декабриста Николая Тургенева, получившего воспитание в Гёттингенском университете и, несмотря на свой «политический фанатизм», отличавшегося «посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью – следствием просвещения истинного и положительных познаний».
Примечателен взгляд Пушкина на ланкастерские школы, которые, как нам уже известно, с момента своего появления в России находились под сильным влиянием участников тайных обществ. «Ланкастерские школы, – пишет Пушкин, – входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке».
Интересные суждения высказывает Пушкин о кадетских корпусах. Этот «рассадник офицеров русской армии, – замечает поэт, – требует физического преобразования, большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении». В этих словах и в последующих предложениях по пересмотру некоторых принципов организации внутренней жизни кадетских корпусов также нельзя не заметить серьезного упрека в адрес правящего режима. По мнению Пушкина, оздоровления порядка в этих учебных заведениях следует добиваться не излюбленным для российского самодержавия путем внедрения в ученическую среду тайных правительственных агентов, а путем организации полиции, составленной из лучших воспитанников. Иными словами, Пушкин выступает за то, чтобы внутренние конфликты в кадетских корпусах (по аналогии с автономными европейскими университетами) разрешались без участия правительственной полиции и жандармерии, силами самих воспитанников, назначенных или избранных в качестве «внутренних полицейских», блюстителей местных порядков. При этом Пушкин отмечает, что «доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию; через сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства».
Затрагивая вопрос о наказании кадетов за всякого рода проступки, Пушкин замечает, что эти наказания должны быть соизмеримы с проступками: «За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание; за возмутительную – исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастию, слишком у нас обыкновенное». Самым решительным образом поэт выступает против телесных наказаний. «Уничтожение телесных наказаний необходимо, – утверждал Пушкин. – Надлежит заранее внушать воспитанникам правила чести и человеколюбия; не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом; слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников».
В гимназиях, лицеях и пансионах при университетах Пушкин предлагает «продлить, по крайней мере, 3-мя годами круг обыкновенный учения, по мере того повышая и чины, даваемые при выпуске». При этом он сетует на то, что «языки слишком много занимают времени». «К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен?». «К чему латинский или греческий? – задается далее он вопросом и вопросом же отвечает. – Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?». Предлагая отказаться от увлечения ученическими обществами и светскими журналами, отвлекающими воспитанников от серьезного учения, Пушкин высказывается за то, чтобы «окончательные годы» учения гимназистов, лицеистов, пансионеров были заняты высшими политическими науками: «Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сэя и Сисмонди, статистика, история».
Весьма ценны рассуждения Пушкина о преподавании истории, содержащиеся в заключительной части записки. «История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений, – пишет он. – К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны».
С особым чувством пишет Пушкин об изучении отечественной истории: «Историю российскую должно будет преподавать по Карамзину. „История государства Российского“ есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».
Представленная Пушкиным записка Николаем I была прочитана. На ее полях император поставил сорок вопросительных и один восклицательный знак, что свидетельствовало о явном недовольстве мыслями опального поэта. Официальная реакция на пушкинский труд была более сдержанной, но весьма примечательной с точки зрения того, каких взглядов на данный предмет придерживался сам царь. 23 декабря 1826 г. Бенкендорф написал Пушкину следующее письмо: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин».
Как показали последующие события, практически все, о чем писал Пушкин в своей записке, было не только проигнорировано, но и абсолютно противоположно истолковано властью. В 1827 г. в рескрипте на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова Николай I изложил основы нового устройства учебных заведений. Во главу угла предполагавшихся перемен были положены принципы сословного образования с разрешением обучения в гимназиях и университетах, а также приравненных к ним учебных заведениях, «только людей свободного состояния». Говоря об обучении «помещичьих поселян и дворовых людей», царский рескрипт предписывал существенные ограничения возможного объема общеобразовательных знаний в доступных для них частных заведениях и профессиональных школах узкими рамками уездных училищ.
В конце 1828 г. был утвержден новый «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведомстве университетов», отменявший либеральный александровский Устав 1804 г. и придававший законодательный характер консервативно-охрани-тельным нововведениям в школьную жизнь. Новый устав не только закреплял сословный принцип образования, но и разрывал отечественную систему образования на отдельные, не связанные между собой звенья, предназначая каждое из них преимущественно для определенного сословия. Приходские училища согласно уставу были рассчитаны преимущественно на детей «самых нижних состояний». Уездные училища предназначались для детей купцов, ремесленников и других городских обывателей. При этом преподававшиеся в уездных училищах по Уставу 1804 г. физика и естественная история из нового устава были изъяты. Гимназии предназначались для детей дворян и чиновников. Ликвидируя преемственность между уездными училищами и гимназиями, Устав 1828 г. делал гимназический курс обучения семилетним. При этом определенные Уставом 1804 г. «либеральные» предметы – политическая экономия, философия, естествознание и другие, за расширение которых ратовал в своей записке Пушкин, были исключены из учебного плана. Преподавание же древних языков, наоборот, усиливалось.
Последующие изменения в школьной системе николаевской России были напрямую связаны с революционными событиями в Европе. После июльской революции 1830 г. во Франции впавшее в панику правительство решилось на изъятие гимназий из ведения университетов и усиление функций директоров, как проводников охранительных мер в подведомственных учебных заведениях. В обязанности директоров гимназий, например, вменялось не только общее руководство, но и наблюдение за «духом преподавания», образом мыслей воспитанников, благонадежностью наставников и воспитателей. Ближайший надзор за учащимися стал осуществляться особыми воспитателями – педелями, в арсенале воспитательных средств которых преобладали доносы, слежка, наказания. На должности педелей назначались в основном унтер-офицеры, не имевшие ни достаточного образования, ни элементарной педагогической подготовки. Как и во всей стране, николаевский режим установил в школе казарменную дисциплину и палочные порядки. Широкое применение в учебных заведениях получили телесные наказания. Уставом 1828 г. телесные наказания разрешались в младших классах. Десять лет спустя по ходатайству попечителя Киевского учебного округа телесные наказания были разрешены и для старшеклассников.
Весь внутренний строй николаевских гимназий был направлен на то, чтобы унизить человеческое достоинство воспитанников, сформировать из них покорных и безропотных слуг монархического режима, мыслящих стандартными фразами и раболепствующих перед начальством.
В 1835 г. была утверждена новая редакция Устава российских университетов, на основании которого они лишались права создавать научные общества, осуществлять руководство гимназиями и другими учебными заведениями. Одним росчерком пера Николай I уничтожил провозглашенную в начале века университетскую автономию, сократил количество студентов-разночинцев, предписал усилить полицейский надзор за студенческой молодежью.
Очередная волна репрессий обрушивается на учебные заведения в связи с революционными событиями в Западной Европе 1848 г. В эти годы в учебные планы высших и средних учебных заведений вносятся новые изменения, направленные на усиление религиозного влияния в студенческой и учащейся среде. С этого времени Закон Божий согласно требованию самого императора трактуется как «единственно твердое основание всякому полезному учению». Обыденным явлением становятся беззастенчивая фальсификация науки и насаждение в учебных заведениях суррогатов знания.
В годы правления Николая I Министерство народного просвещения в еще большей степени, чем в период александровской реакции, превратилось в карательный орган по борьбе со свободомыслием и передовыми философскими идеями. Назначенный в 1833 г. министром просвещения С. С. Уваров, долго и упорно пробивавшийся к вершинам власти, разработал новую идеологизированную правительственную программу в области образования, подхваченную всеми консервативными силами тогдашней России. Он призывал самодержавие и русское общество «возложить надежды на истинно-русские охранительные начала православия, самодержавия и народности», составлявшие, по его мнению, «последний якорь спасения» и «вернейший залог силы и величия отечества».
Однако чем суровее были удары судьбы, тем сильнее и шире было сопротивление этим ударам. И в 30-е, и в 40-е годы ХIХ века в общественных же глубинах росли и крепли новые настроения, живые и свежие силы, готовые с юношеским энтузиазмом служить Отечеству, бороться с невежеством и несправедливостью. «Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии, – писал в „Былом и думах“ А. И. Герцен. – Там, где открывались возможности обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением. Что, собственно, мы проповедовали, трудно сказать. Но пуще всего проповедовали ненависть ко всему злу, ко всякому произволу». Дух свободолюбия, истинного патриотизма и высокой гражданственности, проникший в русское общество в период формирования художественного гения Пушкина, оказался неистребим. Как неистребимой была и тяга народа к знанию и культуре. Пушкинская эпоха во главе с самим поэтом, уже в молодые годы ставшим духовным лидером пробуждающейся и восходящей России, подготовила замечательный плацдарм для дальнейшего культурного преображения страны, большой и серьезной просветительной работы, развернутой общественными силами во второй половине ХIХ века на волне либерально-демократических реформ, в русле строительства гражданского общества и правового государства.
Исторический факт появления Пушкина уже сам по себе стал великой победой культуры над бескультурьем, света над мраком, знания над невежеством. В пушкинскую эпоху не только расширился образованный слой русского общества, но и значительно обогатился умственный инструментарий россиян: словарь, понятия, методы. Язык Пушкина облегчил понимание истины для миллионов и миллионов его соотечественников, предопределив эпоху всеобщей грамотности. Образ мыслей Пушкина обогатил палитру чувственного восприятия россиянами окружающего мира. Пример пушкинского гения способствовал раскрытию безграничных возможностей, заложенных в человеческой природе.
Став звучным эхом своей эпохи, голос Пушкина не затерялся в многоголосье последующих эпох. Он беспрестанно зовет нас к вершинам совершенства и утверждает: они покоряемы лишь людьми с твердой верой в гуманизм и силу научного знания, патриотическими стремлениями и вселенской моралью.