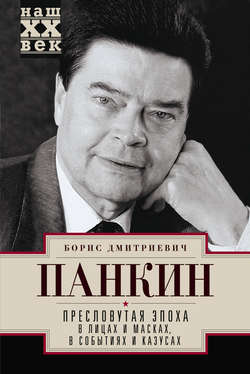Читать книгу Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах - Борис Панкин - Страница 5
Часть первая
Задачка по математике
ОглавлениеНе представляю, что уже такое я вытворял, но в младших классах мне по поведению ставили четверку, или «хорошо». В зависимости, какая шкала была в тот или иной год в ходу. Было еще прилежание. По нему всегда – пятерка или «отлично». И по всем другим предметам. А по поведению – «хорошо».
А так как мои родители в силу профессии отца-автомобилиста вели бродячий образ жизни, то при переезде с места на место и, соответственно, смене школ возникали проблемы.
С первой четверкой я второклассником вернулся с родителями в Москву в середине учебного года из Алтан-Булака, монгольского городка через границу от нашей Кяхты. Отец повел меня записывать в школу неподалеку от нашего дома, и меня по причине этой самой четверки не приняли. Отправили в другую, только что построенную, где, как говорили старожилы, контингент и учителей, и учащихся был тот еще.
Здесь мне учиться довелось полтора года. Из учителей запомнилась только «немка», то есть преподаватель немецкого Мария Исааковна. Не знаю, не задавался, естественно, в ту пору таким вопросом, кто она была по национальности, немка или еврейка, помню только, что обращалась она с нашим братом круто. Да мы того и заслуживали.
– Пошел вон из класса, – заявила она как-то одному моему однокашнику.
Он неожиданно обиделся, запротестовал.
– Ах, – воскликнула она, – вы хотите вежливо? Так позвольте вам выйти вон!
Несмотря, а может быть, именно за эти штучки, которые были сродни нашим фокусам, мы ее любили, хотя немецкому не научились ни тогда, ни позже. Когда она заболевала, что случалось с ней по возрасту частенько, мы обязательно навещали ее с букетом цветов, который никто из мальчишек не соглашался держать в руках, и коробкой конфет. И то и другое нам вручали в учительской. Мария Исааковна была одиноким человеком.
Грянула война, и мы уехали в Сердобск, откуда вернулись вместе с салютами за Орел, Курск и Белгород и за Харьков.
С той же четверкой в табеле по поведению я отправился, естественно, в ту же 294-ю, которая была, однако, семилеткой.
Так что через год пришлось опять менять школу. А тут еще на год уезжали мы в Калинин. Много школ, еще больше учителей. И вот диво – ни об одном из них не могу сказать дурного слова. Сколько ни стараюсь, не могу найти в тех школах, через которые прошел, примет той выморочности, рептильности и прочих прелестей, о которых столько прочитал за минувшие десятилетия. Наверное, мне просто повезло.
Вспоминаю имена… В той последней из многих моих школ, где кончал десятилетку… Физик Аршак Артемьевич, математик Иосиф Самойлович, словесники-супруги – Людмила Александровна и Геннадий Исаакович Беленькие…
Не помню, чтобы хотя бы про себя я называл одного евреем, другого армянином, третьего узбеком – был и такой, да вот не вспомню фамилии…
Сейчас в этом трудно убедить даже самого себя… Любимое выражение Иосифа Самойловича было: «Кончен бал, потухли свечи».
Аршак Артемьевич любил, натолкнувшись на тебя в коридоре, именно натолкнувшись, так стремительно он всегда передвигался, ткнуть сложенной лопаткой в ребро, иногда довольно больно, и спросить: «Как дела?» Ответа не ждал, если только не становилось ему известно, что у тебя проблема…
Дальше рассказ о том, как он и другие повели себя, когда такие проблемы возникли.
К десятому классу учителя уже представляли себе более-менее, кто из нас, старшеклассников, чего стоит и куда стремится. Я числился в знатоках и любителях литературы. По этой причине ходил в любимцах у Людмилы Александровны. Она имела привычку зачитывать на уроках страницы из моих сочинений. В десятом передала меня своему мужу, Геннадию Исааковичу, перед которым все благоговели, поскольку он всю войну воевал и к тому же готовился защищать диссертацию на звание кандидата филологических наук.
Тот тоже считал своим долгом меня опекать. И когда я заявил как-то, что Тугаринову из «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского мне не верится, потому что уж слишком пылко он объясняется в преданности партии и любви к народу, он очень внимательно, даже, кажется, с удовольствием меня слушал, а после урока отвел в сторонку и посоветовал вслух на эту тему особенно не распространяться. Во всяком случае, до получения аттестата зрелости. А еще лучше – до поступления в вуз. Мы с ним уже решили, что я буду поступать на филологический факультет, где год назад открылось отделение журналистики.
Не скрою, я выслушал его с некоторым недоумением. Что тоже характерно. Я и не предполагал, что мне еще придется, и не раз, столкнуться с этим злосчастным «Кавалером».
Не думаю, что я отличался особыми способностями, но в тех редких случаях, когда мама приходила на родительские собрания, не только «литераторы», но и «математик» утверждали, что у меня есть все данные идти по их линии.
Иосиф Савельевич Левинсон… Поблескивающий от бесчисленных глажек пиджачок бывшего черного цвета, галстук, который норовил всегда свернуться жгутом, короткие, выше щиколоток брюки… Много позже кто-то старательно просвещал меня, что по таким, мол, укороченным брюкам евреи узнают друг друга…
К цифрам и знакам он относился как к расшалившимся детям, которых он тщетно призывает к порядку, не особенно огорчаясь, что это ему не удается.
Семерка у него была солдатом с винтовкой наперевес. 6 и 9 – куклы-неваляшки. 1 000 000 – рота на марше. Во главе со старшим лейтенантом. Пятерка – артист Володин жонглирует на одноколесном велосипеде в кинофильме «Цирк». Когда он объяснил, как извлекаются квадратные корни, казалось, он держит двойку за хвост и тащит ее из каких-то тисков… Тройка – это румяный теплый крендель, которые нам раздавали на большой перемене.
Вот с математикой-то чуть было и не случился конфуз. На экзамене на аттестат зрелости… Не знаю, насколько это педагогично, но ответ на задачку, которая была прислана в школу в запечатанном конверте, мы от Иосифа Савельевича знали… Я довольно быстро произвел необходимые манипуляции с цифрами, которые привели меня к искомому, вернее, известному результату. Сдал тетрадку и с легким сердцем, благо погода стояла хорошая, отправился на свидание в Останкинский парк. Учились мы тогда с женским полом в разных школах.
Домой – а я жил в ту пору один – заявился часам к пяти и обнаружил в дверях записку, помеченную тремя часами раньше. Еще не отдавая себе отчет, что же произошло, рванул в школу и обнаружил, что Иосиф Савельевич поджидает меня вместе с Геннадием Исааковичем, который был у нас к тому же классным руководителем. Оказывается, к требуемому ответу я пришел, увлекшись, каким-то не тем путем, «оригинальным, но ошибочным», умудрился еще сострить Иосиф Савельевич, и мне просто надо сесть в пустом классе и переписать работу. Что я и сделал.
– Кончен бал, потухли свечи, – не удержался от своего любимого Левинсон, забирая второй раз за этот день у меня тетрадку. Я только потом сообразил, что мои учителя с риском для собственной репутации и элементарной безопасности нарушили все мыслимые правила проведения выпускных экзаменов. Конверт с работами, который должен был быть опечатан еще два часа назад, лежал и как миленький поджидал меня. На что, как шепнул мне, успокаивая, Геннадий Исаакович, удалось уговорить и директора, она же и председатель экзаменационной комиссии, Лидию Николаевну.
Они еще и оправдывались передо мною, мои спасители. Чтобы я не подумал о них чего-нибудь плохого. Мол, всем известно, что экзамены – чистая формальность, источник бессмысленных случайностей.
Словом, как и по другим предметам, по математике я получил пятерку и был представлен в числе трех-четырех моих однокашников к золотой медали.
Был назначен выпускной вечер с вручением аттестатов, а утром того же дня выяснилось, что медали на мою долю из гороно не прислали. Геннадий Исаакович переживал, кажется, больше меня. Он точно знал, что без медали на «журналистику» лучше и не пробовать. С одной стороны – бывшие фронтовики, которых закономерно зачисляют, почти не спрашивая на экзаменах, тем более что все они, как правило, члены партии. А с другой стороны, «золотая молодежь», то есть родительский конкурс, выражение, которое только-только входило в моду. За меня хлопотать было некому.
Он убеждал меня подавать в педагогический, благо их в столице было тогда несколько – и областного, и центрального подчинения. На факультет русского языка и литературы.
– Писать все равно никакой университет не научит, а к литературе вы будете здесь даже ближе…
В десятом классе учителя обращались к нам на «вы». Хоть и хорошие были у меня учителя, но на профессию их у меня была аллергия.
Между тем Генадя, как мы сокращенно звали его про себя, знал то, что от меня из гуманных соображений скрывали: директриса «так этого вопроса не оставила» и добивалась от гороно разъяснений. И вот снова, через неделю после выпускного вечера, вызов меня в школу, уже оконченную, и вручение в «узком кругу» Геннадия Исааковича и Лидии Николаевны… серебряной медали. Ларчик просто открывался. «В гороно решили, – разъясняли они мне, довольные исходом и собой, – что человек с таким почерком просто не может ничего пут ного написать. И не глядя переделали пятерку на четверку. А с четверкой за сочинение ни о какой медали уже говорить не приходится.
Настойчивость моих наставников сработала. Сочинение было-таки прочитано, пятерку мне за него поставили, но на медали сошлись серебряной. Чтобы ни нашим, ни вашим. И я чуть ли не из школы помчался на Моховую – сдавать документы на филфак. Вот такая незамысловатая история, помеченная июнем 1948 года. Эхо ее донеслось до меня десятилетия спустя, в Стокгольме, когда я уж и сам стал сомневаться, не приснилось ли мне все это.
Пришло в 1983 году в Стокгольм письмо от сокурсника по университету, из фронтовиков, Коли Пияшева: «Познакомился с Геннадием Исааковичем Беленьким, который так-то обронил фразу, что, мол, теперь среди его учеников есть один посол. Когда стало ясно, что речь идет о тебе и что мы с тобой однокашники, сообщил мне любопытную историю о твоем почерке, который чуть было не стоил тебе серебряной медали и, соответственно, университета». В утешение мне Николай – историк литературы – сообщил, что точно такой же почерк был у Луначарского. Когда до революции он сидел в тюрьме, его надзиратель, который по должности обязан был перлюстрировать его переписку, однажды взмолился: «Господин Луначарский, пишите поразборчивее, а то я все ночи провожу за расшифровкой ваших каракулей».
Не знаю, внял ли этой мольбе Луначарский, но мне за мой почерк сейчас и двойки бы не поставили.