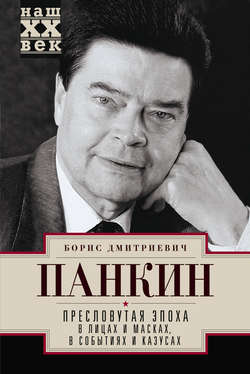Читать книгу Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах - Борис Панкин - Страница 9
Часть первая
«Наши женщины должны одеваться как княгини…»
ОглавлениеВ старом «новом» здании МГУ на Моховой, там, где с выходом на улицу Герцена теснилась и многотиражка «Московский университет», главная аудитория называлась Коммунистической. В старом здании, Моховая, 9, где на четвертом этаже находились сразу и филфак, и факультет журналистики, самой большой была угловая аудитория № 2, с окнами на Моховую и Манежную площадь. Здесь читались лекции для всего курса и совершались все общественные события. Общественная жизнь била ключом, и, как тогда любили выражаться, все по голове.
Мы как раз начинали наш второй курс, когда жертвой такой привычки «кипеть и пениться» стал наш однокашник, туркмен Мурат Непесов.
Дело было в Комаудитории, на обсуждении пьесы Анатолия Софронова «Московский характер», о которой буквально на днях стало известно, что она получила Сталинскую премию первой степени. Мурат, рослый детина, с копной черных жестких волос, обрамлявших смуглое, скуластое, с крупным носом и губами бантиком лицо, вдруг поднялся на сцену и сказал, что спектакля он не видел, денег нет в театры ходить, а пьесу читал и она ему не понравилась. Аудитория, то есть все присутствующие в ней, сначала охнули, а потом словно онемели.
Воцарившуюся тишину прервал заполошным голосом председательствующий, аспирант филфака, который предложил Мурату, верзиле с ликом кочевника, объяснить собравшимся, чем именно не понравилась ему пьеса выдающегося драматурга современности, одного из руководителей Союза писателей СССР, которая только что была так высоко оценена партией и правительством.
Развернутых аргументов у Мурата не нашлось. Он просто буркнул, что с трудом дочитал пьесу до конца, и спрыгнул со сцены поближе к выходу.
Громы и молнии по его адресу раздавались, судя по всему, в его отсутствие. Но через пару дней в старом корпусе собралась, не по своей инициативе, комсомольская группа отделения тюркологии и дружно, без долгих прений, вкатила ему, при молчаливом его согласии, выговор «за незрелое поведение при обсуждении общественно важных вопросов». Мурат не каялся, но и не трепыхался. Стороны разошлись довольные друг другом.
Примерно в те же дни, заскочив по ошибке в полукруглую Вторую аудиторию, я попал на обсуждение другого премированного шедевра той поры – спектакля по пьесе Анатолия Сурова «Рассвет над Москвой». В гости к аспирантам филфака приехали артисты Театра имени Моссовета во главе со своим художественным руководителем Юрием Александровичем Завадским.
Пьеса, как я слышал раньше, была о текстильщицах московской Трехгорки. Выступавшие соревновались в комплиментах автору и труппе. И только один аспирант позволил себе усомниться в полном совершенстве текста.
– Почему, – вопрошал он, – автор пьесы считает, что высшей похвалой нашей женщине служит сравнение ее с аристократками прошлого?
И хотя оратор идеологически выдержанно апеллировал к пролетарскому достоинству героинь пьесы, Юрий Александрович, статью и величавыми манерами которого я любовался уже целый час, вскочил как ужаленный.
– Эти слова, – произнес он своим неповторимым баритоном, льющимся словно ртуть – тяжело и блестяще, – эти слова, дорогой товарищ, – а слышалось: «Милостивый государь», – в которых вы изволили обнаружить подобострастие перед дореволюционным прошлым, принадлежат, да будет вам известно, – тут он взял и обескураживающе долго держал классическую паузу, – принадлежат товарищу Сталину, – не помню, назвал ли он его при этом великим вождем, корифеем всех наук и лучшим другом всех трудящихся. – «Наши женщины достойны того, чтобы одеваться как княгини…» – сказал товарищ Сталин.
Я много раз еще видел и даже встречался с Юрием Александровичем – в театре, на каких-то заседаниях, дома у Галины Сергеевны Улановой, мужем которой он когда-то был.
Либерал, вольнодумец, новатор сцены, чей талант обрел второе дыхание в годы хрущевской «оттепели». Но каждый раз в памяти всплывала злополучная Вторая аудитория, наполненная блестящей декламацией великого лицедея и растерянностью аспиранта с не запомнившимся мне именем.
Это как с траурным маршем Шопена. Стоит его услышать, как правило, в соответствующей обстановке, как начинают, словно в насмешку, звучать кем-то однажды напетые слова: «Умер наш дядя…»
Десятилетия спустя прочитал в книге Алексея Щеглова о Фаине Раневской, что она назвала этот спектакль о производстве тканей, в котором вместе с ней были заняты Николай Мордвинов, Вера Марецкая, Борис Оленин, голгофой для актеров, «соплями в сахаре»…