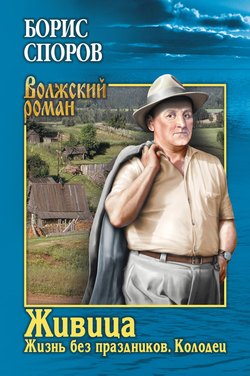Читать книгу Живица: Жизнь без праздников; Колодец - Борис Споров - Страница 6
Жизнь без праздников
Часть первая
Глава первая
5
ОглавлениеЧем ближе Борис подходил к Перелетихе, тем замедленнее становился его шаг. Будто шел он не к доброй свояченице, а к лютой вражине.
И не раз уже в таком вот состоянии думал: «Почему так – Петьке с Федькой Перелетиха «до лампочки», хотя они и выросли здесь, а Ванюшка без Перелетихи жить не может? Видать, все она, Нинушка…» А вот что Нинушка – понять он не мог, да и не стремился понять.
Когда перебирались в Курбатиху, Нина упросила оставить Ванюшку у неё, хотя бы на первое время. И его оставили.
Раков был уже председателем колхоза, и Нина обратилась к нему:
– Николай Васильевич, нельзя ли так… чтобы я, ну, работала у себя в Перелетихе?
Почти год жена Ракова и дочка жили в Курбатихе, и почти год Нина по работе общалась с Раковым, и за все это время они и словом не напомнили друг другу о том, что было между ними, однако негласный, внутренний диалог велся – они ещё понимали друг друга. И когда Нина обратилась с просьбой, Раков понял примерно так: «Пойми меня правильно, я могу работать и здесь, но ведь лучше, если я схоронюсь в Перелетихе». – «Может быть, и лучше», – согласился он. И она продолжила вслух:
– А то ведь как получается: из Перелетихи в Курбатиху, а другой – из Курбатихи в Перелетиху. («Каждый день глаза мозолю: мне больно, а тебе, наверно, досадно». – И последовал ответ: «Мне тоже…») Борис с Верой сюда перебираются, а Ванюшка у меня побудет, на новом-то месте трудно сразу обжиться. («Одна я, своего-то ребеночка вдруг и не будет, так хоть с племянничком куковать буду». – И последовал ответ: «А у меня дочка, родная, и люблю я ее, только вот живем в одной семье, а как будто врозь – каждый по себе».) Вы уж придумайте, Николай Васильевич, что-нибудь, не обязательно ведь агрономом. («Давай уж, пойдем на жертву, так обоим лучше будет». – И последовал ответ: «Права ты, надо подумать…»)
Поражало самообладание Нины – губы не дрогнули, глаз не опустила: и какая же в ней сохранялась чистота, поистине – светлая… Нет, и Раков не чувствовал себя негодяем, да он и не был им, и всё-таки его обжигало прикосновением её взгляда, голоса, само присутствие – жгло. И появлялось желание обнять ее за плечи и сказать одно-единственное слово: «Прости». И он знал: она простила бы, утешила, после чего обоим стало бы легче. Но как это сделать, как обнять, как сказать это одно-единственное слово, когда столько вокруг и в себе условностей и сомнений… И он лишь нещадно курил, чадил сатанинским ладаном.
Наконец Раков вмял в пепельницу окурок и сказал негромко, но решительно:
– Нина… ты нужна всюду, как агроном. Но я подумаю… в общем, я понимаю, что это не каприз.
И Раков сдержал слово – подумал: вскоре Нину утвердили бригадиром на перелетихинских фермах.
И Ванюшка остался в Перелетихе.
* * *
Заливисто и требовательно звенел его голосишко: «Нянька, пить!.. Нянька, есть!.. Нянька…» И этот голосишко будил её, поднимал, заставлял, возвращал в реальную жизнь, заглушая тот трубный голос: «Будешь одна…»
И Нина улыбалась точно издалека. В задумчивости она нередко глядела на Ванюшку, и казалось ей (и она это чувствовала всем своим сердцем!), что это её ребёнок, её и Ракова, и что в нём, в этом крохотном создании, сосредоточился весь мир, вселенная, от него, от ребенка, и вся жизнь исходит…
* * *
Уже шесть лет помнился – и, наверно, так и будет помниться – очень мирный, теплый и радостный вечер.
Недели две, как лег снег, и детский, в три-пять градусов, морозец удерживал эту хрупкую зиму. Но не радовалась Перелетиха лучистому снегу – некому радоваться. И сиротливой казалась эта нетронутая уличная белизна.
Ванюшке не с кем было отметить приход зимы, и он ежедневно канючил:
– Няньк, айда кататься. – У него были и саночки, и лыжи, но какое катанье одному! – Няньк, на горку айда…
Нинушка оговаривала, обещала, да только времени всё не хватало, день-то короток, а уличного освещения нет.
А в тот день она была в Курбатихе, возвратилась к обеду – никуда ещё и не пошла… И Ванюшка проявил характер: после обеда они пошли во двор ладить дровешки. Но пришлось вколачивать и расклинивать копылки, перевязывать таловый крепеж – словом, с час провозились, пока не наладили «конягу». Постелили старую дерюжку, сверху бросили соломки – и айда на тягучую школьную горку.
И как же они катались!.. Как падали!.. А как они смеялись – до слез, до икоты! – когда из Ванюшкиных штанов выгребали снег! В конце концов они уже еле-еле поднялись в горушку – пришли домой мокрехоньки, но такие радостные – и голодные! Ели горячую пшённую кашу, пили желтое топленое молоко, а когда Нина выскочила и всего-то на несколько минут во двор к тёлке, Ванюшка, розовощекий и горячий, как сидел – так за столом и уснул. Нина перенесла его в боковушку на диван. Раздела, укрыла, сама присела на краешек дивана – и, как в усталость, погрузилась в раздумье. Поначалу это было даже не раздумье – скорее, смутная внутренняя тоска или скорбь: годы прожитые кажутся чрезмерно многочисленными, и жизненная деятельность – пустой и будущая жизнь – бессмысленной; и все это обязательно потому, что жизнь-то как таковая не оценена, не понята, не возвеличена – вся жизнь воспринимается, как комплекс всеобщих и необходимых фактов, скажем: дом, уют, семья, непьющий муж, негулящая жена, дети – только ведь будь всё это, но и тогда мир может показаться с овчинку, потому что неминуемо будет грозить пальцем он, конец земной жизни, – и от этого смятения никуда не денешься. Тут уж одно из двух: или ты наконец поймешь предназначение жизни, поймешь, воспримешь и тогда возвысишься, или будешь пытаться обмануть себя всевозможными подачками или обольщениями – разграфишь свою жизнь на множество мелких промежуточных целей и, достигая их одну за другой, будешь убеждать себя в целесообразности собственной жизни, хотя неминуемо в конце пути поймешь – все это размельченная суета, а на горизонте – грозящий палец.
В такие минуты, как правило, и приходит вопрос: а для чего? Для чего живет человек?
Вот это или примерно это и повергло в раздумье. И будь Нина одна, плакала бы она до тех пор, пока не уснула. Но рядом был Ванюшка, на него спасительно и переключились мысли. В избе натоплено, жарко. Во сне Ванюшка стягивал с себя одеяло и так-то привольно раскидывал ручонки.
Пройдёт время, и ребёнок, как деревце, сантиметр за сантиметром прибавится в росте, раздвинется вширь, нальется крепостью – и всё это будто само собой, от природы. А вот умственный, нравственный, духовный рост – как с этим быть? Всё вроде бы есть, всё заложено в капле крови – и только развитие требует особой пищи, здесь человеку уже не хватает просто физиологических изменений, необходима, как хлеб для тела, нравственная, духовная пища.
…И что это будет за человек? Землепашец, строитель, учитель или физик-ядерник, а может, это растет человек, какие вехами обозначают и знаменуют века?.. Всё может быть, но ясно одно – и важно это одно: он должен вырасти созидателем, разрушителей и без того хватает, да и зачем пребывать в детской святости разрушителю? Или же и детская святость может быть изуродована и скомкана – и всё зависит от того, как он или что он ответит на неминуемый вопрос: для чего живет человек?
И не требовалось уже никаких усилий для того, чтобы увидеть Ванюшку – там, в будущем – взрослым, сильным и добрым. То представлялось, что он летит в космос – но зачем?! – то она видела его строителем сотых и двухсотых этажей – но зачем!? – то он перегораживал бетоном реки или поворачивал их вспять – но зачем?! – то он виделся домоседом-затворником, ушедшим то ли в науку-историю, то ли в науку-философию – но что он там ищет? И если находит, то для чего – для созидания или для разрушения? Она видела, она хотела бы увидеть Ванюшку сеятелем добра и хлеба.
И как колеблется, мерцает звёздочка в бескрайнем ночном небе, так жизнь Ванюшкина мерцала в будущем – так же реально и так же непостижимо.
* * *
И, наверно, именно тогда, в тот вечер, душой своею, сердцем своим Нина поняла, что вся их дальнейшая жизнь – ее и Ванюшки – будет скреплена клятвой нерасторжимости. И тогда же, наверно, в последний раз столь беспощадно для нее прозвучало трубно: «Будешь одна». Но слова эти теперь обретали иной смысл: нет, не одна – с ней Ванюшка… Но чтобы взвалить на свои слабые плечи ответственность за человека, за Ванюшку, она прежде сама должна ответить на вопрос: а для чего?.. Если же не ответит, то имеет ли право на человека будущего? И как же она поведет его в будущее, если сама-то – слепая. Ведь и в Имзе оба утонут с таким поводырём.
И длился тихий вечер, как одухотворенная мысль; и теплые стены дома представлялись живой пеленою, так что за стенами его уже не были видны ни села, ни города, лишь лунная бескрайность, погруженная в ночь. И только здесь, внутри пелены, сосредоточилась жизнь: она и Ванюшка – вот это и есть вселенная…
Затем Нина естественно, без нажима, переключилась на себя – в одно мгновение вспомнила всю свою жизнь – и поразила пропасть: впервые так отчетливо она поняла, что всю свою в общем-то недолгую жизнь она была предоставлена сама себе – одна. Вокруг родные и близкие – и все-таки одна. Даже мать так и стояла в сторонке… Нет, не было ни на кого обиды – да и за что обижаться! – когда отец погиб, а у матери пятеро осталось. Сыта, одета, обута – что ещё-то? Всё так, и иначе не могло быть, и все-таки над пропастью – поняла вдруг свое духовное сиротство, и ничем этого сиротства нельзя подменить: ни сестрой, ни братом, ни школьным учителем, ни техникумовским преподавателем, ни даже Раковым – он и сам слепой, сирота. Это и есть – над пропастью.
А ведь у каждого человека, хотя бы в молодости, должен быть наставник, который мог бы сказать: иди туда, делай то, продолжай начатое другими – и при надобности объяснил бы, почему туда, почему то, зачем…
А если нет?
Вот и идут люди каждый по себе – на ощупь, по краю пропасти со слепыми поводырями.