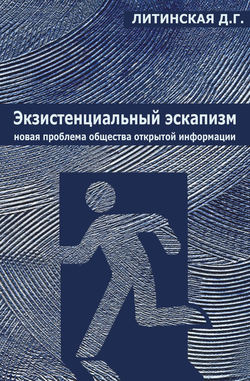Читать книгу Экзистенциальный эскапизм: новая проблема общества открытой информации - Д. Г. Литинская - Страница 5
Семиотические аспекты категории эскапизма
ОглавлениеЭскапизм – явление, интенсивно исследуемое последнее время, но не имеющее четкого, устоявшегося толкования и классификации[3]. Чаще всего этим понятием обозначают мировоззрение или стиль жизни, подменяющий реальные отношения с миром на воображаемые. Также считается, что этот стиль жизни может формироваться на основе религиозных верований или представлений субкультуры, в том числе – под влиянием литературного вымысла. В этом смысле, может быть выделен религиозный эскапизм, который обнаруживается, к примеру, в стремлении уйти в монастырь или аскетическую практику, сопровождающемся разрывом отношений с прежним окружением, и эскапизм субкультурный – основанный на переходе в узкую группу единомышленников в попытке реконструкции иллюзорного мира при игнорировании реального социума.
Первым об эскапизме в экзистенциальных координатах заговорил Дж. Р. Р. Толкиен в эссе «О волшебных историях»[4]. Он трактовал эскапизм как осознанный побег от «уродств современности» в иллюзорный мир литературной фантазии. Именно с тем, что Толкиену принадлежит первенство в подробном описании, часто эскапизм ошибочно связывают с движением толкиенистов, хотя Толкиен писал о читателях «волшебных историй» (не только своего авторства). Этот класс читателей далеко не ограничивается толкиенистами, которых во времена Толкиена, собственно, и не было. Причем далего не все «толкиенисты» относятся к тем, кого имел в виду Толкиен, говоря об эскапизме. Толкиенисты – это субкультура, и идентифицировать ее как эскапистскую можно не в большей степени, чем любую иную субкультуру.
Так как эскапизм – термин, относительно новый для философского дискурса, представляется небезынтересным хотя бы поверхностный анализ лингвистического аспекта, ключевых номинаций, связанных с концептом изгойства/эскапизма. Без этого не избежать путаницы «бытового», «расхожего» и терминологического словоупотребления. Как в русском слове изгой, так и, например, в английском exit или французском exile (несомненно произошедших от латинского exitus), в самом слове эскапизм (ср. французское escaper ‘избегать’) и даже в слове эскапада (заимствованном в русский язык посредством французского escapade и итальянского scappata), в немецком Ausschreitung ‘эксцесс, выходка’, Ausbruck ‘побег, бегство’ прослеживается один общий элемент – приставка со значением удаления, движения вовне (русское из-, немецкое aus- и рефлексы латинского ex-[5] в новых языках). Представляется, что разрыв социальных связей как движение за пределы области, имеющей некие границы, является универсальной метафорой как минимум в европейском культурном ареале. Это косвенным образом увязывается с рассмотренными нами околоэскапическими явлениями как некими степенями эскапизма, поскольку движение из центра вовне легко представить себе как линейный градуальный процесс. (Не нарушает эту логику и менее распространенное написание термина принятое в отечественной философии – эскейпизм, от английского слова escepe ‘выход’).
Среди лексем, связанных с понятием «эскапизм», можно выделить производные от непереходных глаголов, подчеркивающие субъектную ориентацию действия, его добровольность и, возможно, осознанность. Сюда относятся такие интернационализмы, как эскапизм, эскапада, эмиграция; русские выходка, выход, отшельник. Другую группу образуют производные переходных глаголов, подразумевающие возможность внешней каузации, такие, как русское изгой (от изгонять), или французское proscrit ‘изгой’ (из латинского ‘proscriptio‘ – приговор об изгнании, позволяющий любому убить изгнанника в случае его незаконного возвращения). Крайнюю степень эскапизма, которую мы выше обозначили как «отторжение», наиболее ярко иллюстрирует разговорное французское слово avorton ‘отщепенец’, которое может употребляться также в своем изначальном прямом значении ‘выкидыш’ (ср. испанское abortyn ‘выкидыш у животных’; русское аборт, абортировать). С одной стороны, этимология слова подразумевает отторжение индивида средой, приводящее к его гибели (тогда он выступает как объект), с другой стороны, очевидна связь между суицидом и абортом, когда индивид в условном, метафорическом смысле «исправляет ошибку родителей» (таким образом, становясь в едином лице и объектом и субъектом этого действия).
Эту же двойственную природу эскапизма демонстрирует и французское существительное exile, которое соответствует в равной мере и переходному глаголу exiler ‘изгонять’, так и возвратному s’exiler ‘устраняться, удаляться в изгнание’.
Теперь перейдем к эскапизму как к научной категории. Эскапизм в психологическом дискурсе различают на эскапизм непродуктивный как стратегию защиты и продуктивный как метастратегию совладания (Кутузова Д.А.). Также говорят об эскапизме как о неприятии социальной системы – социальном эскапизме (Kellner D.). Один из вариантов эскапизма подобного типа может проявлять себя как дауншифтинг – пренебрежение карьерой, материальным преуспеванием ради погружения в свои частные интересы, фокусирующие жизненные цели на персональных достижениях и личных связей, на установлении баланса между работой и досугом и т. п. (Hamilton C., Mail E.; Nelson M.R.). В близком смысле эскапизм можно рассматривать как побег от давления рутин повседневности и вызываемого ими чувства самоотчуждения: туристический эскапизм, экстремальный спорт и т. п. (Шапинская Е.Н.).
Во всех этих толкованиях эскапизм рассматривается как инструментальная стратегия социального поведения, служащая «бегству от…»: от повседневных практик контроля, от отчужденности, от анонимности жизни в современном мегаполисе и так далее. То есть речь идет о стратегии являющейся, в конечном счете, формой адаптации человека к условиям жизни в современном постиндустриальном обществе, даже если ее побочным результатом окажется его частичная социальная дезадаптация.
В отечественной философской литературе советских лет эскапизм упоминается как признак «разложения буржуазного общества» и связывается с нигилизмом и упадком. Часто эскапизм соотносят с одиночеством, но необходимо понимать принципиальное различие между ними. Вспоминая известную формулу, данную Анной Ахматовой: «Есть уединение и одиночество. Уединения ищут, от одиночества бегут», – можно сказать, что эскапист – человек, которому не надо искать ни того, ни другого: он и так ощущает себя радикально отличным, изъятым из сообщества себе подобных.
Пример таких разных представлений об эскапизме, показывает, что в современной культуре и гуманитарном дискурсе эскапизм существует не как научный термин или четко определенный кластер явлений, а как культурный концепт со своей собственной жизнью. Он отражает такие процессы в культуре современности, которые выражаются в кризисе самоидентификации, росте консьюмеризма, господстве неолиберальной идеологии, виртуализации восприятия реальности и др.
Мы же, в отличие от всего перечисленного, будем рассматривать более узкий сегмент дискурса об эскапизме, конкретное явление – экзистенциальный эскапизм, который представляет собой не столько бегство из социального мира с его нормами и рутинами в альтернативную реальность (игры, субкультуры, литературного вымысла, религиозной веры и т. д.), сколько осознанный отказ от встречи с Другим[6], от Другого как такового.
Важно обратить внимание на парадокс, который содержит в себе экзистенциальный эскапизм: с одной стороны, термин эскапизм, в отличие от термина изгойство, подразумевает, что отделенность человека от других является следствием его свободного выбора. С другой же стороны – в обществе идет процесс частичной социальной дезинтеграции, распада любых устойчивых, относительно постоянных общностей (Giddens A.). При этом речь уже идёт не просто об индивидуальном свободном выборе, а о том, что в процессе развития культуры сложилась ситуация, побуждающая этот выбор сделать.
Кроме того надо определить специфику современного экзистенциального эскапизма в отличие от эскапизма античных киников или стоиков. Как отмечал В.В. Сильвестров[7], философский итог античности трагичен. С.С. Аверинцев писал, что свобода для поздней античности неслучайно ассоциируется с запахом крови, растекшейся по ванне[8]: стоик находит утешение лишь в том, что осознает космический порядок, которому он всецело подчинен. У индивида в античном космосе, ведомом слепой судьбой, нет собственного содержания, отличного от безразличной к индивиду вечности космического порядка. Современный экзистенциальный эскапизм разрывает с любыми социальными идентичностями и идентичностью с собой, не желая искать Другого, не имея жажды его встретить, отторгая саму эту возможность ради безграничного утверждения собственной автономии, не нуждающейся в Другом. Тогда как античный эскапизм не мог отвергать Другого, поскольку в античном мире возможность для Другого стать, смыслом жизни и свободы просто отсутствовала.
Далее мы рассмотрим ряд явлений, которые имеют черты сходства с феноменом экзистенциального эскапизма, но отличаются от него прежде всего тем, что в качестве специфических стратегий самоидентификации человека им не свойственна такая радикальная самодостаточность и полнота отказа от Другого, о которой речь шла выше.
В первую очередь это «эскапада» (выходка) – совершение поступков отделяющих (выделяющих) человека от общества, нарушающих принятые в обществе нормы и тем самым создающих дистанцию между совершающим поступки человеком и устанавливающим норму обществом. Важно, что при этом идентификация человека с обществом не разрушается. Аутентичным примером эскапады может служить грибоедовский Чацкий. Совершая набор поступков и выдвигая набор мнений, которые представляются окружающим девиантными, декларируя свое отличие от окружающих, он, тем не менее, не отказывается от собственной принадлежности к доминирующему социуму, а напротив, пользуется в полной мере преимуществами своего статуса. То, что Чацкий представляет себя в чем-то выше окружающих в данном контексте не важно нам. То же самое можно сказать и о подростке, который бьет окна своей школы, показывая себя хуже, чем окружающие. Главное, что и то и другое подразумевает, что человек ставит себя НАД нормой. Во многом это утверждения статуса в социуме, через нарушение правил, через подход грани, как Л.И. Повицкий писал про Сергея Есенина: «– Да, я скандалил, – говорил он <Есенин> мне однажды, – мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения – это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь!»[9]., т. е. это выход за положенный статус «поэта» в статус без ограничений, тот в котором нельзя разочаровать и разочароваться – можно быть плохим поэтом, не быть вовсе признанным как поэт, но нельзя оказаться плохим хулиганом.
То есть, мы видим, что «эскапада» как таковая возможна только при сохранных тесных связях со своей социальной группой и, как это ни парадоксально, требует поддержки с ее стороны (нелегальный мигрант – человек вне статуса – не может позволить себе эскапады, любой его поступок будет воспринят не как эскапада, а как девиация/правонарушение в чистом виде).
Далее, такое явление как «выход» – разрыв связи со своей социальной группой без перехода в какую-либо другую. К примеру, подросток, ушедший из семьи и пришедший в коммуну хиппи, «вышедшим» не является, так как он совершил не «выход», а именно «переход». Напротив, Франциск Ассизский, первым ушедший из дому, выкинув в окно вещи своего богатого отца, как раз являет пример «вышедшего», так как уходил он даже не в монастырь, что было бы конвенциональным присоединением к иной группе, чем та, к которой он, сын богача и молодой преуспевающий торговец, принадлежал раньше. Но нет, Франциск выбирает уникальный путь, которому не следовал до него ни один современник: «Выслушав жалобы мессера Пьетро [отца Франциска] и защитную речь сына, [епископ] Гвидо тотчас вынес ясное решение: – Ты, мессер Пьетро, не имеешь права мешать сыну следовать по пути, назначенному Господом, посему отступись от своих суровых намерений. А ты, Франциск, если и вправду хочешь следовать Господу на пути к совершенству, откажись от всего. Такова Его заповедь. Тогда юноша сбросил с себя всю одежду и остался в одной власянице. Подобрав одежду с земли, он бросил ее потрясенному отцу: – Слушайте, – воскликнул Франциск, – до сей поры я звал отцом Пьетро Бернардоне, но я желаю служить одному Господу, и я отказываюсь от всего имения отца и от одежды, которую от него получил. Отныне я могу с уверенностью говорить: «Отче наш, сущий на небесах». Живое сочувствие охватило толпу. Тронут был и сам епископ. Своей мантией он прикрыл наготу юноши. Всякая связь с миром и с плотью оборвалась. Франциск нищим вступал в служение Господу», – пишет Анаклето Яковелли[10]. Мы видим, что, совершая «выход», Франциск не обошелся без «выходки», оставшись прилюдно в голом виде (так же сложно не признать «выходкой» его вольное обращение с имуществом своего отца, но тут речь идет о точке отсчета, о действии, которое является «последней точкой над i», обозначает окончательный исход). При этом мы видим, что выход не подразумевает разрыв с любой социальностью: выходя из своего дома, из своего сословия Франциск, тем не менее, не пренебрегает посредничеством официальной фигуры – епископа Гвидо. При этом его поступок есть именно выход, а не переход, так как он не присоединяется ни к одной группе внутри официального католицизма, а идет своим собственным, новым путем. Тут можно видеть ту же парадоксальность, о которой мы говорили выше: на социальном уровне проблемы Франциск, конечно, идет в никуда, не зная завершения своего пути – он стал главой нового ордена, но мог стать и просто нищим проповедником, странным недоотшельником – местной достопримечательностью; на глубоко же внутреннем, экзистенциальном уровне – он шел к Богу.
Иначе говоря, вышедшие – это избравшие собственный путь и при этом «победившие», сумевшие повести по этому пути других (как Франциск Ассизкий) или добиться своей цели иным путем. Имена «проигравших» вышедших история не сохраняет, но, несомненно, они были, и внутренний их посыл мог быть не менее высок в своем стремлении к Единственному Другому, достойному стремления в этой парадигме миропонимания.
«Выход» бывает сопряжен и с физическим изменением места пребывания человека (эмиграция), сменой состояния разума и социального положения (алкоголизм, по сути, – та же внутренняя эмиграция, эмиграция в деградацию), может и принимать форму затворничества в собственном доме или внутри собственной личности (уход от многих других, но путь к Другому – себе). Термин «внутренняя эмиграция» исследователь Олег Маслов датирует 1933 годом и пишет о нем так: «Термин «внутренняя эмиграция» часто употреблялся в начале 90-х годов прошлого века интеллектуалами, объяснявшими свое существование в СССР в рамках тоталитарной системы. Сам термин «внутренняя эмиграция» понятен в контексте советской эпохи, когда свободная эмиграция для большинства граждан страны была практически невозможной. Термин «внутренняя эмиграция» является производной от практически невозможной внешней эмиграции и в то же время является символом неучастия в делах государства и жизни общества по тем правилам, которые были жестко заданы в СССР»[11]. Если в СССР была «непричастность» к делам государственным из несогласия с официальной политикой для многих становилась единственным способом сохранить относительное благополучие и при том не поступиться своими принципами, то явление, отчетливо представляющее собой внутреннюю эмиграцию (хоть обыкновенно и не называемую так) в современных мегаполисах, имеет иную природу: «С почти полной утратой надежд на упорядоченный, прозрачный и предсказуемый «идеальный город», утопическая тоска по глубоко человечной среде обитания, которая сочетала бы в себе интригующее разнообразие с безопасностью, не ставя под угрозу ни один из этих необходимых компонентов счастья, перетекла на меньшие и потому более достижимые и реалистичные цели. Вместо того чтобы пытаться преобразовать улицу, нужно оградить себя от ее угроз, скрыться в убежище и захлопнуть за собой дверь», – пишет З. Бауман[12], и это прекрасное описание вышеназванного явления.
Говоря об эмиграции, внешней или внутренней, нельзя не вспомнить слова Петера Слотердайка: «Вероятно, эмиграции можно было бы придавать несколько менее серьезное значение, если бы она действительно была феноменом «на окраине общества». Однако ничто не дает оснований для столь беспечного взгляда на нее. То, что сегодня происходит на окраине общества, исходит из его сердцевины. Эмиграция сегодня стала диагнозом, характеризующим массовую психологию. ‹…› Сойти с этого поезда или продолжать делать то же, что и другие? «Спасаться бегством иль остаться?» ‹…› «Бежать» – действительно ли именно это подразумевается данным выражением? А в том, что называется «остаться», разве не проявляется столь часто трусость и меланхолия, соучастие и соглашательство? А решение «сойти с этого поезда» – разве это совершенно сознательный поступок? ‹…› «Сойти с поезда» – правильно потому, что нет желания, закрыв глаза, впутываться в невыносимый цинизм общества, которое утратило способность различать производство и разрушение. «Делать то же, что и другие» – правильно потому, что отдельный человек вправе ориентироваться на необходимость самосохранения в ближайшей перспективе. Бежать – правильно потому, что глупая храбрость ни к чему…»[13].
Часто такое добровольное изгойство в итоге приводит к прижизненной или посмертной «победе» изгнанного над отвергнутой им нормой и признания его покинутым им обществом, а его идей – новой нормой. Среди примеров можно назвать Кьеркегора, случай которого будет подробно описан ниже в посвященной ему главе. При этом совершенно не важно, было ли отделение себя от общества вынужденным, следствием агрессии, ксенофобии со стороны общества, как это случилось с В. Шаламовым, или же добровольным, следствием свободного выбора, как в случае того же св. Франциска (есть и третий, промежуточный тип, когда у человека есть выбор – отречься от своих идей и тем самым сохранить статус и социальную самоидентификацию). Имена же менее удачливых «изгоев», не получивших даже посмертного признания, как было сказано выше, история не имеет обыкновения сохранять.
Теоретически у «вышедших» сохраняется возможность возвращения, даже если «выход» не принес победы над социумом. К той же группе мы причисляем фланеров, хотя про них часто нельзя сказать, покинули ли они свою группу или не обретали ее вовсе.
И последняя, интересующая нас категория «отторжение», то есть полное отторжение какой-либо социальной идентичности, полный и окончательный разрыв с какими-либо социальными ограничениями. Таким образом, человек оказывается, с одной стороны, свободен от каких либо рамок, ограничивающих, сужающих его выбор, но одновременно он оказывается в истинном экзистенциальном вакууме.
Иными словами, человек, способный позволить себе все, становится в своем мироощущении всемогущим, «богоравным», и ему сложно избежать соблазна пробовать мир и себя на прочность, но в результате он нащупывает не границы мира, а собственные границы и приходит к концепции саморазрушения. Прекрасная тому иллюстрация – персонажи Ф.М. Достоевского Раскольников и Свидригайлов: оба разрушают сначала свою идентичность, нарушая то или иное ключевое табу, и приходят к концепту самоотрицания и самоуничтожения в итоге. То есть мы видим казус Эмпедокла[14] – стать богом, убив бога (отказ всех наших персонажей от религиозных концепций). Именно этой позиции оппонирует К. Маркс утверждая, что тот, кто отрицает существование Бога, занят вторичным вопросом, так как он отрицает Бога, чтоб утвердить существование человека, чтобы поставить человека на место Бога (учитывая трансформацию). Речь в равной степени может идти об актуализированном, физическом или условном самоубийстве. Акт самоуничтожения решает некоторые экзистенциальные проблемы, так, возможность самоубийства, создавая иллюзию власти над собой, предоставляет возможность совладать со страхом смерти, со страхом одиночества (экзистенциальным вакуумом) и с прочими страхами, включая ксенофобию.
Таким образом, можно выделить типологию эскапизма по направлению: бегство во вне – во фланерство, специфические увлечения, туризм и прочие сферы, подходящие для инструментального эскапизма, отделяющие от социума, но не всегда от Другого – или бегство внутрь себя, в познание, в стремление к постижению новых индивидуальных смыслов, фантазированию, т. е. от Другого, с сферу эскапизма экзистенциального.
Все эти явления, кроме «отторжения», сходные в той или иной мере с феноменом эскапизма, по сути, представляют угрозу заданной ранее идентичности: в случае «выходки/ эскапады» это проигрывание возможности разрушения групповой идентичности (случай Чацкого); в случае «выхода» – полное или частичное разрушение идентичности с какими бы то ни было группами (случай Кьеркегора); в случае же «отторжения» речь идет о несовместимости собственной идентичности с представлениями о мире, при котором может происходить как разрушение собственной идентичности (уход в девиацию), так и «отказ от мира». И все же все они (за исключением отторжения как манифестации экзистенциального эскапизма) несут в себе и ресурс – возможность выйти из социально заданной колеи – и увидеть Другого (Другого – в ином человеке, в котором начинаешь видеть человека, а не его социальную функцию, его социальную атрибутику; Другого – Бога; Другого – себя). Но перечисленные явления несут в себе и другой потенциал – возможность выбрать путь эскапизма, в мире которого Другой просто не существует.
3
В качестве очень не удачной с нашей точки зрения попытки такой классификации можно упомянуть, например, классификацию Р.Е. Мантова разделяющего эскапизм на физический, психофизический и эстетический.
4
Толкиен Дж. Р.Р. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки М.,1991.
5
Именно с этой приставкой связана очень глубокая и красивая версия появления термина эскапизм, подаренная мне во время написания этой книги Яном Михайловичем Бухаровым: Внутренняя (по Потебня А.А. Мысль и язык. – Харьков: «Мирный труд», 1913, т. е., этимологическая) форма слова эскапизм возводится к французкому глаголу échapper, образованному из латинской приставки ex (из, вне) и корня cappa (плащ, покрывало) – иными словами, исходное значение этого слова может быть описано примерно как «сбросить одежды», «обнажиться», «раскутаться» (ср. Труфанова Е.О. Эскапизм и эскапистское сознание: к определению понятий // Философия и культура № 3, 2012 С. 96–107). Это с определённой неизбежностью вызывает ассоциации с известным евангельским эпизодом, сопровождавшим арест Иисуса в Гефсиманском саду: «Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:51-52). Возможно, именно этот эпизод и послужил когда-то основой для переносного значения убегать/избегать, ставшего со временем главным значением глагола échapper.
6
Тут и далее, когда мы говорим о Другом с большой буквы, в Левинасовском понимании.
7
Сильвестров В.В. Культура. Деятельность. Общение. М.: РОССПЭН, 1998. С. 437.
8
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Coda, 1997 С. 70.
9
Повицкий Л.И. о Сергее Есенине // esenin.ru/vospominaniya/povitskiy-l-o-sergee-esenine/
10
Яковелли А. Святой Франциск Ассизский М., 2003.
11
Маслов О. Новая «внутренняя эмиграция» в России начала XXI века // http://www.polit.nnov.ru/2006/05/23/emigration/.
12
Бауман З. Город страхов, город надежд // Логос. М., 2008 № 3 С. 42.
13
Слотердайк П. Критика цинического разума. – Пер. с нем. А. Перцев. – Екатеринбург: У-Фактория; Москва: АСТ, 2009, С. 150–152.
14
Конструкт Аванесова С.С. (Аванесов С.С. Вольная смерть Основания философской суицидологи. Ч. 1. – Томск 2003 – 393 с.).