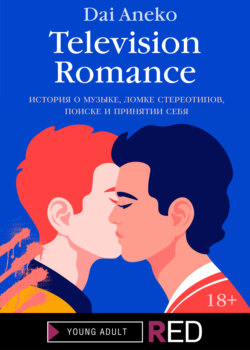Читать книгу Television Romance - Dai Aneko - Страница 3
One. I guess we're different
ОглавлениеОбычно все дурацкие истории начинаются с самого утра, с самого будильника или завтрака; но Кёнсунова началась с того, что они с его друзьями – Соно, Минджуном и Йесоном – сидели на лавках у кабинета директора, и Кёнсун смотрел в окно, за которым младшие классы делали зарядку на уроке физкультуры; солнце светило ярко-ярко, совсем по-летнему, а не по-сентябрьски, и школьники бегали по стадиону в шортах и футболках, а рядом разминалась команда поддержки в сине-белой форме с юбками в складку. Какая-то низенькая девчонка не могла никак достаточно растянуться, и к ней пристал парень в синих трениках и белой футболке – тоже член команды – и начал давить ей на спину, так сильно, что она, кажется, закричала от боли, потому что, сидя в помещении за закрытыми окнами, Кёнсун мог поклясться, что слышал её вскрик.
Минджун развалился на сиденье и ковырялся кроссовками в отслоившемся порванном линолеуме, пуская стрелку по серо-коричневому полотну всё дальше, засунув руки в карманы своих широких изумрудно-зелёных брюк. Он был уставшим и совершенно подавленным, то и дело как-то тяжело вздыхая и глядя прямо перед собой в невидимую точку в противоположной стене, под окнами. Йесон спал на его плече, потому что тоже не выспался; его выкрашенная в вишнёво-красный шевелюра то и дело содрогалась от тревожной дрёмы, но он никак не просыпался. Соно читал какой-то старый журнал, который нашёл на журнальном столике около кабинета директора.
В коридоре стояла тишина. Мерно и надоедливо тикали огромные уродливые часы на стене. Если не считать Кёнсуновы нервные подёргивания коленкой, не было никаких движений, даже воздух стоял, не циркулируя; духота просачивалась в помещение с улицы, окна нагревались от ярких солнечных лучей, и Кёнсун встал, чтобы открыть форточку, потому что от нервов было просто нечем дышать, он боялся, что отключится, прежде чем директор вообще удосужится их принять. Кёнсун потянул за деревянную ручку, и в форточку ворвалась летняя жара, от которой у него застыл выдох в горле, так что Чхве отвернулся и протяжно выдохнул, глядя на измученную бессонной ночью компанию.
Они катались после их мини-вечеринки по улице на пикапе Йесона, огромном и ржавом, но самом любимом пикапе на планете, потому что, Йесон считал, это будет лучшая машина для их будущих гастролей, ведь у него огромный кузов для инвентаря и достаточно места внутри, чтобы они могли поместиться на сиденьях вчетвером. Кёнсун обычно ездил спереди, потому что однажды выиграл у Минджуна спор на максимальное количество съеденных хот-догов, так что с тех самых пор Кёнсун ездил рядом с Йесоном – единственным парнем, у которого были права в его окружении. Он был старше их всех, учился в выпускном классе, а права у него появились уже в шестнадцать. Тогда же появился и пикап.
Так вот, ехали они в нём – Кёнсун на переднем пассажирском сиденье с бутылкой самого отвратительного пойла, обозванного Йесоном «эльфийским элем», но после него здорово кружило голову, так что Чхве продолжал его пить с зажмуренными от отвращения глазами, и ему было так хорошо. Из новенькой магнитолы – Йесон сказал, что перестал бы уважать себя, если бы поставил в «золотой» пикап рухлядь, – на полную катушку заливалась какая-то отличная песня, и ни у кого из них не было и малейшего представления, что за исполнитель её пел; но в его голове эта песня делала самое главное – заглушала новые мысли по поводу Сокхвана, который прошлой ночью вдруг вздумал ему позвонить, и Кёнсун снова впадал в подобие депрессии. Поэтому они решили собраться и выпить на квартире у Соно, Кёнсун бы сказал, конкретно надраться, полосуя потом пьяными махами по несчастной акустической гитаре и завывая самые дерьмовые песни о любви, а затем – просто вывалиться на улицу и поехать покорять чёртов город на полуразвалившемся пикапе.
Стоя в пустом длинном коридоре и глядя на взъерошенные волосы парней и их синяки под глазами, Кёнсун думал, что это была отвратительная идея. Одна из самых идиотских за всю историю их идиотских идей. Их группа называлась «Роман из телевизора», потому что это была одна из самых любимых песен Кёнсуна, от неё у него коленки тряслись – так сильно она ему нравилась с этим налётом музыки восьмидесятых. Остальные не возражали, потому что, когда они собирали их группу четыре года назад, никто даже и подумать не мог, что они это всерьёз, что Кёнсун это всерьёз. Но серьёзней его на тот момент никого не было во всём мире, а Сокхван – куда же без него – поддерживал его всеми руками и ногами, и именно он помог ему найти Минджуна и Йесона, и Кёнсун тогда думал, что, возможно, существует какая-то иная, более тесная связь у корейцев друг с другом, о которой Кёнсун просто не знал, и они могут найти друг друга в какой-то специальной базе данных по местоположению и увлечениям. Ему было забавно так думать. Йесон и Минджун оказались полными придурками, поэтому они довольно быстро сдружились. И они играли на гитарах, духовых и даже аккордеоне, но этой опции Кёнсун за четыре года так и не придумал назначение.
В общем, идея была отвратительная по нескольким причинам. Во-первых, они были несовершеннолетними идиотами, пьяными до посинения, и с бутылками в руках, а во-вторых, даже не настолько пьяный Йесон въехал на своём замечательном пикапе прямо в кирпичный прямоугольный монумент у въезда на территорию школы, где гордо черными печатными буквами было выгравировано название: «Модесто Хай Скул» и, конечно, слова «добро пожаловать». На удивление пикап выжил, а монумент – нет. За секунду до того, как это произошло, Кёнсун сидел, высунув руку с бутылкой из открытого на полную окна, и кричал какую-то чепуху про то, что сможет забить на Сокхвана, и когда они врезались, Кёнсун дёрнулся на сиденье вперёд, но его тугой мозг догадался пристегнуться, так что Кёнсун приложился лбом о приборную панель совсем немного – разбил бровь и только. Повернув голову в сторону Йесона, Кёнсун обнаружил его, сжимающего вытянутыми руками руль, а его лицо было белее луны над городом, и глаза были широко-широко раскрыты от ужаса. Минджуна вырвало на половичок сзади, а Соно недовольно фыркнул и сделал ещё глоток из бутылки.
Кёнсун собирался открыть рот, чтобы объявить остальным, в который раз, что они облажались, но его перебил скрип открывающейся двери в кабинет директора; парень поджал губы и застыл на месте, с толикой паники глядя на выходящего из него мужчину, высокого и худощавого чернокожего, которого все в школе называли просто Мистер Д. Он с нескрываемым разочарованием посмотрел на них, упираясь кулаками в бока тёмно-синего пиджака, и покачал головой. Кёнсун смотрел на него, на его скатившиеся по скользкой от испарины коже продолговатые очки, и в его тёмно-карих угрюмых глазах Кёнсун видел свой собственный стыд. Ему было так стыдно, что он мог бы с удовольствием принять участие в разработках машины времени в качестве подопытного кролика.
Мистер Д. никогда не относился к ним плохо. Он вообще был классным, очень понимающим, но серьёзным и рассудительным. Ученики уважали его и прислушивались, а он прислушивался к ученикам. Их группу он, скорее всего, тайно любил, потому что почти всегда давал им отгулы для выступлений на фестивалях, вносил их в списки выступающих на школьных мероприятиях, чтобы им не пришлось договариваться с школьным советом, а ещё он по-отцовски давал им по голове, когда они в чём-то косячили, и только однажды отстранял их от занятий. Однако в этот раз он не дал бы им отцовских тумаков. Он вообще выглядел так, будто они – самое большое разочарование в его жизни. Возможно, так и было. У Кёнсуна сердце упало в пятки и отказывалось дальше биться.
Директор большим пальцем указал парням, чтобы они зашли в кабинет; Соно ткнул локтем в Минджуна, и он скинул с себя Йесона. Тот почти свалился со скамьи, с мучениями разлепляя опухшие глаза, и они стройным рядком прошли в небольшое помещение, освещённое тёплым светом настольной лампы и широким окном, находящимся прямо за рабочим местом Мистера Д. Он проследовал за ними и сел за свой длинный стол, складывая руки в замок на нём, и выждал, пока парни уселись на четыре подготовленных для них стула с мягкими черными сиденьями. Кёнсун кусал губу так остервенело, что она кровоточила уже через пару минут. На потолке крутился вентилятор, в кабинете было не так душно, как снаружи, но дышать под пристальным взором директора всё равно было нечем.
Кёнсун надеялся, что он просто скажет им убираться и приходить на отработки после уроков каждый день в течение нескольких следующих месяцев, но они нарушили своим пьянством закон, так что он должен был приготовить для них что-то по истине ужасное, вроде исключения и полиции со штрафом в полтысячи зелёных с каждого в добавок. Поэтому Кёнсунова надежда тухла каждую минуту всё больше и больше, лишь он поднимал испуганные глаза на его нахмуренное лицо, изучающее учеников перед ним. В попытках найти хоть каплю успокоения, Кёнсун глянул на остальных, буквально краешком глаза, и увидел, что Соно совсем всё равно; он сидел расслабленнее остальных, рассматривая без энтузиазма свои облупившиеся чёрные ногти, закинув одну ногу на другую. Кёнсун подумал, что в нём сосредоточилась либо вся их храбрость, либо вся их глупость. Йесон теребил пальцами рукава своей безразмерной рубашки, жёлтой в мелкую клетку из чёрных полосок. Кёнсун любил эту рубашку. Она считалась в их группе счастливой после того, как они пару раз выиграли в шоу талантов, когда Йесон был в ней, так что теперь если им предстояло что-то невероятно сложное – он, либо кто-то из них надевал её. Этот раз был не исключением.
Кёнсун перевёл взгляд на Минджуна, и он смотрел на него тоже, и в ту секунду он как-то шумно сглотнул – Кёнсун сразу опустил глаза в пол. Он был похож на напуганного ребёнка. Такие большие глаза, такое вытянутое лицо. Кёнсун попытался вспомнить, когда видел шатена таким в последний раз, и вдруг понял, что никогда. Да, Соно был хладнокровней всех тех животных, которых объединили в это семейство, но он не был авантюристом; дух приключений среди них жил и тёк по венам именно Минджуна, и именно он всегда шёл первым на встречу любым препятствиям. Он заводил толпу, он кричал громче всех и заливался громче всех. Так что видеть его таким ужаснувшимся Чхве стало так больно, его страх передался ему одним мимолётным взглядом. Кёнсун напряг каждую мышцу в своём теле и посмотрел на выжидающего чего-то Мистера Д.
И тут он дрогнул, и Кёнсун от волнения дрогнул тоже.
– Я даже не знаю, что вам сказать. – Он прочистил горло в кулак. – Я так долго думал, что сказать и просто не могу найти слов. Я в таком ужасе, и я так сильно разочарован в вас.
Кёнсун кивнул ему в знак понимания. Директор остановился взглядом на нём, как на солисте, но Кёнсун никогда не был лидером. Вернее, формально он был, но ему нужно было ещё многому научиться для того, чтобы действительно им стать. Например, в этой ситуации он не проявил ни одного лидерского качества, потому что был скован страхом как стальными цепями, обвитыми вокруг его тела и крепко сжимающими, так сильно, что дышать удавалось только через раз.
– Мы понимаем, Мистер Д., – выронил Кёнсун дрожащим голосом. – Нам очень жаль. Это отвратительная выходка.
Соно тихо и размеренно дышал слева. Кёнсун сглотнул, и в его глазах, скорее всего, читалась тогда такая отчаянная мольба, чтобы их простили или сделали хоть какую-то поблажку, но он знал, что директор устал идти на уступки. Так что всё это было бессмысленно.
– Вы вчетвером будете наказаны. У меня есть ещё время, чтобы придумать, какое наказание вы будете отбывать. Я мог бы отчислить вас или как минимум отстранить от занятий, но я пока думаю, как вы можете пригодиться нашей школе, так что скажу вам позже. Пока что убирайтесь.
– А полиция? – вклинился Минджун.
– Вон из моего кабинета, – жёстче отрезал Мистер Д., и Кёнсун со смешанными эмоциями подорвался со стула и выскочил в коридор.
С колотящимся в самом горле сердцем он схватил оказавшегося поблизости Йесона, полупрозрачного от стресса, и обнял его так крепко, что он издал какой-то сдавленный полувсхлип. Минджун обнял их обоих и пригвоздил к ним безэмоционального Соно, который наверняка закатил глаза. Они простояли так недолго, всего мгновение, чтобы успокоиться, и помчались на улицу, в звенящий зной, который был всё равно свежим воздухом после пережитого, и бежали все вместе до самой поляны у центрального входа в школу, на которой обычно обедали школьники, но из-за того, что урок шёл в самом разгаре, там было пусто. И, добравшись до дерева, раскинувшегося под окнами школьного корпуса, Кёнсун упал на корточки рядом с ним и вжался в него спиной, переводя дыхание. Дерево создавало тень, в ней было приятно спрятаться. Минджун рухнул мешком с песком рядом, прямо на спину на сочно-зелёный газон, и Йесон следом – улёгся головой на Минджунов живот и зажмурился. Соно сел в позе лотоса, замыкая их кривой круг.
– Он что, правда нас не сдал? – подал голос Йесон, и он дрожал, потому что был на грани того, чтобы расплакаться.
– Я не знаю, – шумно выдохнул Кёнсун и облизнул сухие губы.
– Парни, нам была бы такая жопа, если бы он по правде сдал нас, так что, возможно, он не сделал этого. Я уверен, что он не сделал, – Соно прикрыл глаза и вытер пот со лба предплечьем, переводя дыхание.
– Мы должны будем спасти мир за это, – Кёнсун откинул голову назад, прижимаясь макушкой к жёсткой коре. Ветерок чуть щекотал кожу. – Или я не знаю. Короче, мы теперь ему должны. Так много, что я не уверен, смогут ли наши тощие задницы когда-то заплатить по счетам.
– Моя задница не тощая, – возразил Минджун.
Кёнсун закатил бы глаза, если бы они не были закрыты.
В общем, когда урок закончился, они забрали из аудиторий свои оставленные вещи; Кёнсуна ждал урок английского, а Соно и Минджун отправились на биологию. Йесон учился на курсе старше, поэтому их уроки никогда не пересекались, но во время ланча на большой перемене они всегда сидели вместе. Так и в тот день – они договорились встретиться за своим обыкновенным столиком и разошлись по разным сторонам корпуса, хотя от перемены оставалось ещё добрых десять минут. Их всех грызла совесть.
Кёнсун зашёл в класс ещё тогда, когда из него неровными потоками выходили девятиклассники. Он прошёл к парте у окна посередине и, швырнув холщовую сумку на стол, сложил на неё же руки и зарылся в них лицом, нервно выдыхая. Он нёс ответственность, которая оказалась слишком тяжёлой для его худых плеч. И Кёнсун тонул в этом чувстве вины, оно пожирало его с завидной жадностью. Дело было не только в том, что Кёнсун – «лидер», но и в том, что пьянку устроил он, а ещё он мог бы остановить их перед тем, как они сели в этот чёртов пикап, но он не сделал этого.
Поэтому, в который раз за то утро чертыхнувшись, парень лениво расположил принадлежности для урока на парте и уставился в окно, устроив подбородок на ладони. Корпус был построен в виде подковы, поэтому он видел другую аудиторию, так близко, что мог общаться жестами с сидящими там учениками. Там проходил урок биологии и – разумеется – они всегда пользовались этим с Минджуном, который занимал место у окна, прямо как Кёнсун. Он сделал так и в тот раз – сел у окна – и уставился на Кёнсуна, точно так же опираясь на руку подбородком. Они выглядели как отображения друг друга, подавленные и уставшие. Им даже не хотелось общаться, они просто смотрели друг на друга и временами вздыхали – Кёнсун видел, как раз в пару десятков секунд плечи его друга поднимались выше обычного. Так что, он подумал, что не один в своей угрюмости прямо в эту минуту, и ему стало немного легче.
Прозвенел первый звонок, и кабинет начал заполняться старшеклассниками. В помещении поднялся гул, засновали люди, но Кёнсун даже не шелохнулся, прожигая безликим взглядом лицо Минджуна, и он занимался тем же самым, хотя за его спиной точно так же становилось людно и, Кёнсун был уверен, громко. Затем по ушам вдарил второй звонок, и до начала занятий оставалась минута, и в аудиторию зашёл преподаватель, из-за чего парень медленно показал на Минджуна указательным пальцем, давая понять, что тот выиграл никому не известный и никому не нужный челлендж, так что он ухмыльнулся, и Кёнсун отвернулся.
За мистером Клиффордом, преподавателем английского, шёл парень, и Кёнсун сначала не придал этому никакого значения – на втором году обучения постоянно кто-то добавлялся, кто-то убывал. По крайней мере, так говорил Йесон, потому что сам он доучивался только первую неделю. Три дня назад было пополнение в их классе во время урока обществознания, но два дня назад из школы отчислили какого-то громилу с потока. Кёнсун подумал, что, возможно, следующими отчалившими будет их четвёрка, и его передёрнуло.
Все уселись на свои места; Кёнсун открыл учебник на странице с домашним заданием и обнаружил, что забыл сделать одно упражнение. Обречённо выдохнув, он взял карандаш и решил, что лучше поздно, чем никогда, и собирался уже начать его делать – вписать пропущенные слова – когда мистер Клиффорд громко прочистил горло, привлекая внимание, и парень устало поднял на него глаза, отрываясь от предложения, в котором подводных камней оказалось больше, чем в Кёнсуне желания с этим справляться.
Учитель попросил тишины. Стоящий близ него парень, выше преподавателя примерно на голову, был корейцем. Достаточно симпатичным, чтобы девчонки разглядывали его, пока мистер Клиффорд представлял его классу; у него было крепкое телосложение, высокий рост, широкая грудь, скрытая под белоснежной оверсайзной рубашкой, а мощные спортивные бёдра были упакованы в рваные голубые джинсы; ещё у него были пшеничного цвета волосы, и лежали они так аккуратно, косая чёлка открывала лоб. Он улыбался, и когда он представился, Кёнсун подумал, что не слышит в его речи акцента. Его звали Кван Ханылем, и он сиял от радости и предвкушения влития в новый коллектив, а Кёнсун смотрел на него и думал о том, что у него серьёзные проблемы с парнями-корейцами, потому что он казался достаточно красивым, чтобы Кёнсун мог обратить на него внимание.
Его попросили рассказать пару слов о себе, и он сказал, что играет в футбол, занимается плаваньем и любит видеоигры, а ещё – что рад со всеми ними познакомиться, и голос у него был бархатистый, звучный, немного взволнованный. Он как будто говорил грудным регистром, мягко, и окончания предложений медленно утихали, словно в нём заканчивался заряд аккумулятора. В конце монолога он поклонился, как самый настоящий азиат, и Кёнсун вдруг поймал себя на мысли, что ничего толком не услышал, потому что размышлял о том, что, скорее всего, он будет очень популярным в школе, и потом – что, скорее всего, они никогда с ним не заговорят, и вообще Ханыль слеплен из другого теста.
Это подтвердилось совсем скоро, когда он плюхнулся на свободное место на другом конце аудитории, и к нему тут же полезли знакомиться одноклассники, хотя урок уже давно начался. Кёнсун в последний раз взглянул на него, когда Лэйси, одна из самых «общительных» – если вы понимаете – девчонок передала ему записку, и он как-то затушевался, но улыбнулся ей, и Кёнсун подумал, что ему теперь точно конец, потому что за такие мышцы нужно будет ответить перед каждой желающей школьницей в этой дурацкой школе. И Кёнсун вернулся к отвратительному предложению в учебнике; до конца урока оставалось ещё много времени, а задание было одним из последних, но он перевернул страницу и положил голову на стол, лицом к окну, всматриваясь в мутное стекло на той стороне здания, где Минджун сосредоточенно вёл конспект. Так Кёнсун просидел до звонка.
* * *
После третьего урока Кёнсун на ватных ногах выполз на улицу, к зоне со столиками, где в тёплую погоду по обычаю обедали школьники; пришёл туда позже всех и, не взяв ничего поесть, приземлился за стол рядом с Минджуном, медленно пережевывающим куриный чизбургер. Вокруг была куча подростков, они громко разговаривали и смеялись, а над их столом висели грузные серые тучи и обет молчания, которым Кёнсун собирался перекусить, потому что от пережитого стресса желудок внутри скручивался сотнями узлов и болезненно ныл. Йесон передал ему молоко в небольшом тетрапаке, и парень сделал пару глотков, прежде чем скривиться от неприятных ощущений.
– У меня в классе по английскому новенький, – решил Кёнсун поделиться, потому что остальные выглядели слишком вымученными, чтобы хоть словом обмолвиться; на удивление похмелье не подействовало на него так сильно, как на них, хотя, скорее всего, дело было в отрезвляющей с утра беседе с Мистером Д. – Хорошенький. Кореец.
Йесон вскинул брови, мешая в контейнере салат. Минджун закашлялся справа, но Кёнсун знал, что он просто придуривается, так что ударил его по спине, и тот взвыл с полным ртом чизбургера.
– И что? Он достаточно хорош? – спросил Йесон, и диалог, даже такой дурацкий, заставил его немного расслабиться, что было уже хорошим знаком. – Ну, чтобы…
– Нет, – перебил его Кёнсун и пожал плечами. – Он тоже не то.
– Ты же сказал, что он красивый, – гулко проглотив кусок, сказал Минджун и присосался к трубочке в банке с газировкой.
– Красота – это ещё не всё, как будто ты не в курсе, – ответил Йесон, с укором глядя на младшего. – Так в чём дело?
– Экстраверт. Футболист. Горячий парень. Постоянно лыбится.
– О, – Йесон понимающе закивал. – Тогда да, конечно.
Кёнсун хотел расплыться по стулу, чтобы вздремнуть ближайшие минут пятнадцать, пытаясь избавиться от сводящей с ума боли в голове, но вдруг народ вокруг стал ещё шумнее, и люди начали сновать туда-сюда ещё быстрее, и парень с толикой недовольства, смешанного с любопытством, обернулся назад, на источник шума; через мгновение из-за поворота показался капитан школьной футбольной команды, и Кёнсун понятия не имел, как его зовут; рядом с ним, увлечённо слушая чужой рассказ, уверенным шагом шёл новенький, придерживая одной рукой ремень чёрной спортивной сумки. Его волосы, как и волосы капитана, блестели влажностью в ярких лучах полуденного солнца, острыми иглами спускаясь на его лицо и в небольшом беспорядке торча на макушке. Видимо, они как раз шли после урока физкультуры, а раздевалки находились в другом корпусе.
– Ого, – выдохнул Йесон, и Соно, читавший книгу, оторвался от страниц и поднял голову; Минджун, высасывая из банки остатки влаги, обернулся с недоумением назад. – Он правда горяч. Ого.
Кёнсун повернулся обратно лицом к столу и всё-таки развалился на стуле. У него не было желания смотреть на Ханыля, хотя, безусловно, Кёнсун не мог отрицать то, что он привлекательный; ему было также всё равно, как быстро он займёт высокую позицию в пирамиде их школьного социума. Кёнсун понял для себя, что такой весь идеальный Кван Ханыль точно пришёл не за ним, не для него, да и раздражал он немного. Он был слишком обаятельным и общительным, его уже было слишком много, а это было совсем не то, чего искало Кёнсуново сердце.
По расписанию у них в тот день было по четыре урока, так что они договорились собраться после и поехать в гараж для того, чтобы продолжить выбор песен для выступления на осеннем фестивале, участие в котором принимали уже третий год подряд. Им нельзя было облажаться, потому что они должны были показать, как выросли за год, чему научились и чего теперь стоили. Выбор песен всегда был сложным делом, ведь каждый хотел предложить свою, и в конце концов у них было песен двадцать, всегда таких отличных, что от попыток выбрать необходимое ограниченное количество голова шла кругом. И они не думали о том, насколько сложно будет их исполнять; они думали о том, как хорошо они смогут передать их дух слушателям и как они смогут с их помощью расслабиться и подчиниться музыке, свободе.
Кёнсун шёл на последний урок в наушниках, желая послушать ещё одну песню, которую скинул Минджун с подписью «огосподибожеэтопростонечто», а у неё в названии было написано «Песня года 78»; когда Кёнсун включил её, в ушах зазвучал до боли знакомый мотив одной из самых популярных на то время песен в интернете, которая на самом деле называлась «September», и исполняла её группа Earth, Wind amp; Fire. Кёнсун подумал, что Минджун издевается, но песню выключать не стал – она ему правда нравилась. Он отправил в чат стикер с закатыванием глаз.
Последней у него была мировая история. Кёнсун любил историю вне зависимости, была ли она американской или, например, китайской. Ему было интересно изучать пути от становления до крушения великих держав, было интересно, как они справлялись с теми или иными трудностями. Интересно и то, как развивалась в разных государствах своя, обособленная культура. Кёнсун считал «Роман из телевизора» одним из небольших государств. Ему нужно было знать, как построить свою политику так, чтобы потом не было никаких экономических кризисов, забастовок, свержения власти. Не то, чтобы Кёнсун был самоуверенным в плохом смысле лидером, но он бы очень не хотел, чтобы с ним поступили как с Николаем Вторым, например.
Но через пятнадцать минут после начала урока по всей школе вдруг раздался строгий женский голос секретаря через систему оповещений. Он дважды сделал объявление о том, что Кёнсун Чхве – то есть, этот самый Кёнсун – должен явиться в ближайшее время в кабинет директора. Он сидел в ступоре ещё полминуты, пока на него глазели одноклассники и в кабинете наступила тишина. Преподаватель заставил его очнуться и покинуть класс, и он ещё с минуту стоял камнем у дверей, не в состоянии заставить себя сдвинуться. Если его ожидал такой же кошмар, какой был утром, думал Кёнсун, он не пережил бы это. С него было достаточно стресса.
Если Мистер Д. звал его к себе, это означало лишь одно – он придумал, как наказать их. Возможно, думал Кёнсун по дороге в корпус, где находился его кабинет, он придумал что-то отвратительное, по типу отработок после уроков в течение всего последующего года обучения, а, может, он просто не стал париться и решил сдать их полиции. Он так же мог решить отстранить их от уроков или того хуже – отчислить, не найдя в них никакой социальной необходимости. У Кёнсуна сердце билось так быстро, что голова кружилась. В сумке трещал телефон от десятков тревожных сообщений в общем чате.
В кабинете Мистер Д. усадил его на теперь уже единственный стул напротив его стола и некоторое время молчал, перебирая бумаги. Затем, сняв очки и потерев взмокшую переносицу, он посмотрел на парня, и Кёнсун криво улыбнулся, не зная, что должен сказать. Директор не улыбался, но теперь выглядел скорее уставшим, чем взбешённым, как это было с утра.
– Кёнсун, как ты понимаешь, я немного обдумал ваше наказание, – его голос звучал негромко и мягко, не пугающе. – Я правда уже хотел просто сделать всё, как должен был с самого начала. Но вы, ребята, мне как дети, и я не могу с этим ничего сделать.
Он встал из-за стола, обошёл его и присел на столешницу перед Кёнсуном.
– Когда я был в вашем возрасте, у меня тоже была группа. Днём мы были участниками школьного оркестра, а вечером собирались с моими друзьями из одиннадцатого класса и…
…и бла, бла, бла. Он рассказал, как они репетировали в подвалах, как тяжело им далось первое выступление, как они пошли на преступление – взломали музыкальный магазин – чтобы спереть струны для их гитариста ночью перед самым выступлением, потому что какие-то отморозки порезали его старые. Короче, Кёнсун не понимал, к чему он ведёт, но было очевидно одно: это было что-то такое, что могло бы задеть именно «Роман из телевизора», потому что иначе он бы не стал делиться своими воспоминаниями, а просто вызвал родителей в школу.
– Мистер Д., – пробормотал Кёнсун, когда директор в очередной раз, воодушевлённый воспоминаниями, уставился куда-то в стену позади него, едва заметно улыбаясь. – Скажите, пожалуйста, зачем я здесь. Мне правда очень интересно, но, чем я дольше здесь, тем больше нервничаю.
Директор прочистил горло и закивал. Он встал со стола и начал расхаживать по кабинету, застёгивая свой пиджак.
– Ты уже ведь знаком с новеньким в вашем классе по английскому? – спросил он, и Кёнсун подумал, должен ли он вообще отвечать.
– Да. Ханыль, кажется.
– Точно, – Мистер Д. сел за свой стол и сложил руки в замок на столешницу, поверх бумаг. У Кёнсуна создалось впечатление, что он встревожен не меньше его. – Это касается его. Отчасти. Ваше наказание.
Чхве непонимающе уставился на мужчину.
– Во-первых, безусловно, вы будете ходить на отработки после уроков, начиная с понедельника и до конца месяца. – Кёнсун чуть заметно кивнул; шла первая неделя семестра, а все наказания начинались только со второй. – Во-вторых, скоро осенний фестиваль, но, думаю, ты и без меня в курсе, – продолжил он спокойно. – Кван Ханыль здесь новенький, ему нужно здесь освоиться. Я решил, что ты – отличная кандидатура для помощи. Что же касается фестиваля, – он снова надел свои очки, пока парень, как рыба, открывал и закрывал рот в попытках сдержать негодование. – Лучшее, что я могу сделать, так это отстранить вас от участия в нём, ну, а худшее – сам понимаешь. Но я не стану этого делать, если в составе вашей группы там выступит Ханыль.
– Ч-что? – выдохнул рвано Кёнсун.
Ему искренне хотелось верить в то, что ему послышалось, но директор повторил последнее предложение в точности так же, как сказал его в первый раз, и Кёнсун чуть не задохнулся от подступающего к горлу вскрика, утонувшего в груди, так и не прорвавшись наружу. Чхве закрыл рот рукой и зажмурился, тело содрогнулось, и Кёнсун подумал, возможно, его стошнит прямо сейчас на директорский бордовый ковёр, но этого не произошло.
Проблема была, кроме всего прочего, в том, что они обязаны были выступить на осеннем фестивале. Он проводился среди всех школ их округа, и там зачастую были в качестве гостей скауты из разных университетов со всех концов страны, а ещё – подосланные сотрудники различных компаний, подыскивающих талантливую молодёжь. С каждым разом, когда они выступали там, им вручали всё больше визиток, а этот год должен был стать пиком их карьеры, потому что Йесон оканчивал школу, а это значило, что он просто обязан был заявить о себе; а ещё это означало, что он в последний год выступает с ними в качестве школьника.
– Это всё потому, что он кореец? – ляпнул Кёнсун, переведя учащённое дыхание.
Мистер Д. взглянул на него, спокойно и с укором, поправил очки и снова прочистил горло.
Кёнсун и сам был корейцем, но это никаким образом не оправдывало тот факт, что именно он был в какой-то странной, даже дурацкой связи с каждым грёбаным корейцем поблизости. В общем. Дело было в том, что их городок не был самым большим и густонаселённым, он даже не был просто большим, но он находился в Калифорнии, а Калифорния хвасталась наличием самой большой корейской диаспоры в США. Так что азиаты не были чем-то необычным, жители штата к этому привыкли, но всё же именно здесь их не было так много, потому что в таком городишке не каждому хотелось бы жить. В Лос-Анджелесе даже находилось посольство, Кёнсун помнил об этом, потому что ему говорил Сокхван, семья которого занималась помощью в адаптации в новой стране гостей с Азии. И Кёнсун им помогал, потому что, во-первых, он постоянно торчал с Сокхваном, а во-вторых, за это ему платили, немного, но на карманные расходы хватало, так что Чхве не чувствовал себя троглодитом.
А ещё, после десяти лет дружбы с Сокхваном, в возрасте неполных восемнадцати лет Кёнсун уже отчётливо осознавал свою ориентацию, и что у него появился тип, но это не означало, что ему нравился каждый встречный парень-азиат. Кёнсун просто считал их славными. Ему было приятно с ними общаться. То есть, конечно, Кёнсун общался со всеми, не взирая на их расу или пол, но из-за Сокхвана, который был в довольно тесных контактах со всеми корейцами и кореянками в городе даже спустя долгое время после их приезда, будто у них была отдельная община, Кёнсун знал их всех тоже, и потом, пока Сокхван не уехал, когда приезжали другие, Чхве автоматически знакомился и с ними, по привычке, наверное. Это было странно. Даже для него самого. Минджун и Йесон были корейцами, и они с ними легко нашли общий язык.
– Возможно, только отчасти, – сказал Мистер Д., принимаясь опять листать бумажки на столе. – Но он также отличный студент. По крайней мере, если судить по его портфолио из предыдущей школы. Сплошные положительные отзывы, грамоты, награды, похвалы… Даже награды за песенные конкурсы.
– И что? – Кёнсунов голос сорвался; Мистер Д. смирил его одним взглядом, и парень стал тише. – Да пусть он хоть святой. Наша группа – это уже укомплектованный коллектив, и нам не нужен больше никто. Йесон и Минджун умеют играть на всём подряд, Соно пишет песни, вокал за мной был и остаётся. Нам больше никто не нужен.
Кёнсун пылал внутри, потому что это было так нечестно. Они никогда не считали себя школьным ансамблем – именно по этой причине они никогда не репетировали в школьном музыкальном кабинете, оставляя его для хора и оркестра; они всегда были обособленными и в этом был их шарм, их сила. На них никогда не влияли экономические трудности оргкомитета, их не пытались распустить или изменить стилистику, потому что не имели над ними власти. Её никто над ними не имел. Их духом была свобода.
Это была группа Кёнсуна. Каким бы отвратительным порой лидером Чхве ни был, это целиком и полностью была именно его группа: название было его, тексты – большинство из них – были его, вокал был его, люди в группе тоже были его. Даже первая барабанная установка для Соно – хорошая, полуакустическая, а не старая и скрипучая, – была куплена в основном на Кёнсуновы деньги. Потому что Кёнсун желал существования этой группы так же сильно, как желал бы поцеловать Сокхвана – всеми фибрами своей души, каждым нервом, каждым вздохом за все свои на тот момент шестнадцать лет жизни. Они были такими мелкими, но всё равно их глаза горели огнём страсти к музыке. Каждый человек в их «Романе из телевизора» был как часть пазла и идеально дополнял картинку, убери одного – и всё распадётся. Но картинка была полной и не требовала доработок. Никаких Кван Ханылев им не было нужно.
Каждый человек в «Романе из телевизора» был Кёнсуновым, потому что пережил каждую трудность, каждую рану рядом с ним и никогда не отворачивался; каждый из «Романа» поддерживал идиотские идеи Кёнсуна, и его глаза, его сердце горели так же ярко, как у Кёнсуна. Они приняли его и его музыку, они приняли условия, в которых стали расти, и они были частью Кёнсуна, его истории, его личности. Это была больше, чем группа. Это была его жизнь.
В которую теперь пытались насильно вклинить кого-то ещё.
Кёнсун закрыл лицо руками и попытался выровнять дыхание, потому что к горлу подступала истерика, а он не должен был допустить её прорыва. Мистер Д. сложил руки на стол в замке, внимательно всматриваясь в парня, в его пальцы, скрывающие наливающиеся слезами глаза.
– Ты должен понимать, на что мне пришлось пойти, чтобы вас не отчислять, – сказал он спокойно. Кёнсун кивнул, не убирая руки от лица. – Ему нужно здесь освоиться. Ты всегда вокруг себя собирал всех корейцев в округе. У тебя не должно быть с ним проблем.
– У него нет проблем точно, – выдохнул Кёнсун. – Вокруг него уже крутится добрая половина школьников и школьниц. И вообще… Он же первоклассный футболист, так пусть там и осваивается.
– Он хочет музыкальный уклон.
– Тогда пусть валит в хор или оркестр, – Кёнсун хлопнул ладонями по коленкам.
– Это не обсуждается. Ты можешь делать что хочешь, но Кван Ханыль обязан выступить в составе «Романа» на осеннем фестивале, и это окончательно.
Кёнсун ногтями впился в плотную джинсовую ткань на своих бёдрах. Его переполнял ураган из злости, обиды, растекающейся по венам лавы ярости. Эмоциональные слова, из-за которых Кёнсун потом бы жалел до конца своей жизни, застряли в глотке, и он не проронил больше ни звука, кивнув и выйдя из кабинета. Потом он, сжимая губы и кулаки, быстрыми шагами добрался до школьной парковки и уткнулся лбом в горячее от палящего солнца стекло дверцы Йесонова пикапа, пытаясь успокоиться, но внутри выстроенная многолетней, зачастую кровавой работой вселенная рушилась, едва Кёнсун мог бы назвать себя полностью сформировавшимся человеком; в ушах гудел внешний мир и слышался шум разбивающихся надежд и устоев. Кёнсун заплакал.
Разумеется, на урок Кёнсун не вернулся. До конца оставалось тридцать минут. Он простоял все эти полчаса на парковке, откинувшись спиной на накалённый металл пикапа, боясь залезать внутрь и сгореть заживо от горячего воздуха, томящегося внутри машины. Вскрыть дверцы не было трудно, потому что замки на них стояли такие же древние, как сам пикап. Но Кёнсун не хотел стать рагу до прихода остальных, поэтому просто стоял, одной ногой опираясь на автомобиль с обратной стороны от солнца и думал, думал, думал, но всё время возвращался к мысли о том, что лучше бы его отчислили хоть тысячу раз подряд, чем заставили принять нового участника – вне зависимости, был бы это Кван Ханыль или какой-нибудь Пит Костыль.
Когда прозвенел звонок, на парковке стало гулко и многолюдно, но Кёнсун не шелохнулся до самого прихода Йесона. Тот остановился в паре ярдов от брюнета, смотря растерянно ему прямо в глаза, и Кёнсун махнул ему рукой, чтобы он быстрее садился за руль. Им нужно было дождаться Минджуна и Соно, но Йесон должен был до этого завести тачку и включить в ней дряхлый кондиционер, чтобы они смогли пережить поездку от школы до репетиционной.
– Что сказал Мистер Д.? – спросил Йесон, открывая водительскую дверь.
Его обдало жаром из пекла машины, и он постоял ещё пару секунд снаружи, чтобы хоть какой-то свежий воздух с улицы обдал по салону. Кёнсун засунул руки в карманы своих узких джинсов, раскачиваясь с носков на пятки.
– Обсудим на месте. Нам правда есть, что обсудить.
Кёнсун сказал это ровным голосом, но Йесон нахмурился, всматриваясь в его пустое, не выражающее ничего лицо – Чхве, пока пытался успокоиться, растратил силы на всё, даже на мимику. Пожав плечами, Кёнсун отвернулся, всматриваясь в двери центрального входа, то и дело открывающиеся и закрывающиеся от снующих туда-сюда подростков. Минджун и Соно будто планировали дождаться выхода всех учеников из здания и только потом появиться. Они вышли минут через десять, и Кёнсун видел, каким раздражённым выглядел шатен, гневно снимая по дороге с плеча сумку и, пройдя мимо Кёнсуна, зашвыривая её внутрь салона.
– Что случилось? – прошептал Чхве, и Соно безучастно пожал плечами, молча усаживаясь на заднее сиденье справа, за водительским креслом. Минджун всегда сидел позади Кёнсуна.
Они ехали до гаража Минджуна молча; Йесон беспокойно вёл машину, то и дело оглядывая салон, тонущий в духоте и угнетающей энергетике; Кёнсун кусал губы и смотрел в окно, на проплывающие мимо улицы городка, особо не всматриваясь ни в здания, ни в людей, сливающихся в сплошной цветной поток; Минджун, скрестив руки на груди, дёргал нервно коленкой и задевал его сиденье, но Кёнсун молчал, потому что он всегда так делал, когда был зол; Соно жевал жвачку и время от времени надувал и лопал из неё пузыри, расписывая что-то в своём ежедневнике. В машине было грузно и тихо. Никто не хотел включать магнитолу.
Когда они подъехали к дому, Минджун выпрыгнул на тротуар и молча двинулся к входной двери, а остальные, припарковавшись на платформу у въезда в гараж, подняли электрические ворота. Кёнсун сразу же плюхнулся в своё бархатное кресло, залезая на него прямо в ботинках, и откинул голову назад, вздыхая. Внутри была прохлада, приятно пахло древесиной, а свет не был таким ярким, так что спокойнее этого места для него не существовало во всём мире. Кёнсун любил этот гараж так сильно, что, порой, задерживался дольше всех – даже Минджун уже мог уйти спать – и сидел на этом самом кресле, таком потасканном, но мягком и уютном, и писал стихи, играл на гитаре, заучивал каверы. Иногда – просто думал.
Это было замечательное место. Гараж не уступал ни школьной репетиционной, ни любой другой студии, которые сдавались в аренду в городе за неоправданно большие деньги. У них была импровизированная сцена – постеленный на бетонный пол чёрный линолеум, ровно обрезанный отцом Минджуна, чтобы выглядело более профессионально. У них были стойки с микрофонами на шнурах, пускай не самой новой модели, но с довольно качественным звуком. Чуть поодаль от входа, почти посередине помещения стояла барабанная установка Соно, и на ней красовалась их эмблема «Т/R», с нарисованным телевизором и расколотым сердцем на фоне, и всё это было дело рук самого Соно и одного из его многочисленных чёрных баллончиков с краской. У них была акустическая гитара – все на ней умели играть, потому что это было довольно просто – и электронные бас и соло, которые парни купили на заработанные за лето деньги пару лет назад. Минджун разрисовал свою в кислотных оттенках, и на её корпусе тоже красовалась небольшая эмблема их группы. У них ещё был синтезатор, который Кёнсун купил на одной из гаражных распродаж, потому что, он подумал, им нужны клавишные, и Минджун его со временем тоже освоил. У них было и оборудование, не самого высшего сорта, но оно было, и Кёнсун любил и бережно относился к каждому усилителю, стабилизатору и даже к набору из сотен разных медиаторов в круглой стеклянной вазе, стоящей на одном из нескольких стеллажей вместе с тетрадками, дисками и пластинками. На стенах гаража висели плакаты с лозунгами по типу «свобода в огне» или «лучше умереть, чем жить без страсти», и несколько фотографий с группами, чьё творчество нравилось хотя бы половине их коллектива. Там были и The 1975, и Panic! At the Disco, и Pale Waves, и Paramore, и ещё много других, потому что их много кто вдохновлял.
Соно сразу уселся на табурет за барабанами, но палочки не взял, всё ещё увлечённый записями; Йесон достал из небольшого холодильника, который привёз из своего дома, когда родители купили новый и навороченный, две банки газировки и кинул одну Кёнсуну, усаживаясь в кресло-мешок чуть поодаль справа от него. Кёнсун открыл напиток и сделал жадный глоток, обнаружив, что его мучает ужасная жажда. Минджун вышел из двери, ведущей прямиком в дом и находящейся в глубине гаража, с тарелкой сэндвичей и поставил её на низкий столик около Кёнсунова кресла, сам же сел на пол между ним и Йесоном; на его голове теперь была повязана чёрно-белая бандана, видимо, чтобы было не так жарко от волос. Он с громким хрустом откусил огурец, который держал в своей руке, и этот звук был единственным в дурацкой неестественной для этих стен тишине.
– Так что произошло? – спросил Кёнсун, не в силах больше слушать чавканье шатена.
Ему нужно было, чтобы остальные начали говорить; тогда Кёнсун смог бы немного расслабиться и начать обсуждение настоящей проблемы.
– Препод сегодня забрала у Минджуна его скетчбук и выбросила прямо во время урока, – сказал ровным голосом Соно. Кёнсун с приоткрытым ртом уставился на него, и тот не оторвал даже взгляда от ежедневника, прячась за копной взъерошенных мятно-зелёных волос.
Минджун откусил ещё огурца, продолжая лениво его пережёвывать.
– Что за фигня? – воскликнул Йесон.
– Он нарисовал миссис Лори с бесовскими рогами. Прямо во время того, как она рассказывала о распятии Христа, уже в сто двадцать седьмой раз за эти два года.
Кёнсун прижал ладонь ко рту. Миссис Лори была такой набожной, что азиатов – хотя она и не говорила напрямую – считала неверными, и все они в её глазах поклонялись Будде и были наркоманами, хотя, вообще-то, Буддизм зародился в северо-восточной Индии, и там не совсем было про дурь. Уровню её некомпетентности мог бы позавидовать только Кёнсун на уроках точных наук.
– Отвратительно, – прошептал Йесон. – Отвратительно круто.
Минджун взглянул на него и улыбнулся; красноволосый заговорчески улыбнулся в ответ.
– Ладно, парни. У нас проблемы, – вклинился Кёнсун со всей своей серьёзностью.
– Это точно, – закивал Йесон.
– Вы даже себе не представляете, – продолжил брюнет, и все посмотрели на него сосредоточенно, даже Соно с неохотой кинул книжку на пол под табуретку, – в каком мы с вами дерьме.
Кёнсун выждал паузу, потому что слова стало произносить чертовски трудно, как будто для каждого нового нужно было напрячь все мышцы в теле. Остальные молчали, не торопя его.
– Короче. Все же видели новенького? – они кивнули. – Мистер Д. хочет, нет, он заставляет нас взять его в группу.
– Чего? – взбушевался Минджун. – Какого хрена?
– Он сказал, что этот парень занимался вокалом в предыдущей школе или что-то типа того. Что он был так хорош, что Мистер Д. согласился предоставить ему место в этой школе в музыкальном ансамбле.
– Но мы не какой-то дурацкий ансамбль, – взвыл Йесон. – Мы инди-группа. Мы независимые.
– Я знаю, – продолжил Кёнсун. – Конечно, я отказался, за кого вы меня принимаете? Но в качестве альтернативы он предложил отчислить нас из школы или как минимум отстранить нас от участия в фестивале. Или вообще сдать копам. Вот у вас есть по полтысячи? – все замолчали, хлопая глазами, и Кёнсун устало выдохнул. – Вот именно.
– Но у тебя же есть какой-то план? – спросил Минджун.
Кёнсун поджал губы. Ему нужны были бы годы, чтобы придумать хоть что-то, потому что за последний час он придумал ровным счётом ничего.
– Думаю, нам нужно пойти на эти условия, – начал размышлять Йесон. – Сделать так, чтобы этот Ханыль сам отказался. Не знаю, как, думаю, это будет просто. Он долго с нами не протянет. Главное, чтобы он выступил на осеннем фестивале, а дальше – пусть катится.
– А может, он сам накосячит? – сказал Минджун.
Чхве покачал головой:
– Такие, как он, не умеют косячить.
Кёнсун не ненавидел Ханыля. Никто здесь не ненавидел Ханыля. Его никто толком даже не знал. Просто он был не их человеком. Это не была его вина. Он принадлежал миру футбола и команд поддержки, миру вечеринок и популярных девчонок, он принадлежал миру правильному, миру с картинки, со всеми его наградами и почестями, миру обычных школьников и их хлопот, миру социума, в котором они не играли особой роли и вообще – зачастую воспринимались как придурки, потому что, в отличии от большинства, у них была своя мечта, одна, поделённая на четверых. У них была своя эстетика, пропитанная романтикой ретро и пыльных пластинок, с мозолями на пальцах от струн, хриплым под вечер после репетиций голосом и потными футболками; с крашенными в яркие цвета волосами и осыпавшимися смоки, с усыпанными серебром ушами и другим пирсингом, с одеждой не по размеру и кожаными ботинками.
И в общем, они решили, что на следующий день Кёнсун должен был подойти к Ханылю, и потом привести его к остальным, чтобы познакомиться, возможно, в школьной репетиционной, потому что встреча и разговор должны были пройти в спокойной обстановке, без гула вокруг и без лишних ушей, без его кричащей взлетевшей популярности. Кстати, она тоже входила в число тех факторов, из-за которых их группа могла пострадать. Они исполняли музыку не ради популярности, но для тех, кому группа нравилась, так что такой парень, как Ханыль, мог бы – и он бы это сделал – привлечь к ним лишнее внимание.
Тем вечером они репетировали недолго, хотя обычно перед осенним фестивалем они часами пытались доводить звучание до идеала. Но в тот треклятый день был исчерпан запас энергии на пару месяцев вперёд из каждого из них, так что они прогнали несколько неплохих песен, которые могли бы подойти для выступления и куда можно было бы вклинить второго вокалиста кроме припева. Кёнсун даже не был уверен в том, какой у Ханыля певческий голос. Это всё предстояло выяснить на следующий день. Его место занимали то Минджун, то Йесон, но их голоса совсем не походили на голос Квана. У них были неплохие голоса для пения, порой они занимали партии во время бриджа или выступали в качестве бэк-вокала на припевах, но никогда не исполняли песни целиком, потому что играть на инструментах им нравилось гораздо больше, так что было как-то условлено, что вокал у них в группе исключительно Кёнсуна.
В районе семи вечера Йесон уже подвёз Чхве до дома, и Кёнсун пообещал ему, что всё будет хорошо, сидя на пассажирском сиденье, повёрнутый к нему корпусом. Йесон беспокоился за их группу как мать за родных детей, просто потому, что испытывал те же тёплые чувства ко всему, что было связано с «Романом из телевизора», какие были и у Кёнсуна. Они обнялись, Йесон зарылся носом ему в надплечье, и было щекотно, но Кёнсун ничего не сказал. Потом он провёл рукой по его щеке, и Кёнсун молча вышел из машины, и старший ждал, не трогаясь с места до тех пор, пока Чхве не зашёл в дом.
* * *
На следующий день после урока обществознания – он шёл третьим в списке – Кёнсун выжидал Ханыля около его шкафчика. Была как раз большая перемена, и, если бы не обстоятельства, они преспокойно сидели бы за ланчем на улице, обсуждая предстоящий фестиваль, а, может, какую-нибудь чушь, по типу недавно вышедших видеоигр, в которых Минджун был специалистом с завидным послужным списком, а они всегда слушали его советы о том, на что стоит обратить внимание; все они – в большей или меньшей степени – любили видеоигры. Так что, да. Они могли бы их обсуждать в тот самый момент. Но Кёнсун стоял у чужого шкафчика, кусая от волнения губы и озираясь, потому что его собственный шкафчик был на другом конце коридора, и в этом «дистрикте» Кёнсун обычно не тусовался. Телефон вибрировал в кармане узких джинсов от бесконечных сообщений от Минджуна в общем чате, раздражая его сильнее, но Кёнсун старался не терять самообладание, потому что ему нужно было представиться в качестве настоящего лидера.
Ханыль заставил себя подождать ещё некоторое время, может, минут пять, но этого времени было достаточно, чтобы Кёнсун, взвинченный от постоянных оповещений и дурацких взглядов проходящих мимо школьников, уже собирался уходить, но тут Кван вынырнул из-за угла, лучезарно улыбаясь высокому парню из футбольной команды. Он был таким ярким в своём свитшоте цвета яичного желтка, его сильные ноги облегали узкие спортивные брюки с двумя белыми лампасами по бокам, сияли белизной кеды, шнурки которых обвязывали узкие лодыжки на два раза. Время стало замедленным, как в сериалах, и они постепенно надвигались на Чхве, вместе с этим футболистом в сине-белом бомбере с эмблемой школы, и Кёнсун затаил дыхание. Каждая клеточка его тела застыла, Кёнсун даже перестал ощущать вибрацию мобильника; когда Ханыль, всё ещё так широко улыбаясь, что глаза от паутинок морщин в уголках были едва видны, наконец наткнулся на него, стоящего прямо перед его шкафчиком, он охнул, потому что не заметил его облачённую в чёрное с ног до головы фигуру на фоне светло-серой стены, и вопросительно его оглядел; Ханыль был выше Чхве дюймов на пять. Кёнсун забыл английскую речь, поэтому тупо смотрел на него некоторое время, замечая в ярком дневном свете, льющемся из широких окон коридора, маленькие родинки справа на кончике его носа и под губой.
– Эй, певичка, тебе что-то нужно? – с насмешкой спросил футболист, и Кёнсун даже не посмотрел на него, потому что, если он знал его, это не было гарантией того, что Кёнсун знал его тоже.
Кёнсун проглотил ком в горле и схватил застывшего Ханыля за запястье, и, швырнув какое-то сдавленное «да», потащил парня прямиком в репетиционную сквозь толпы подростков, непонимающе расступающихся перед ними. От переполняющего его волнения Кёнсун даже не чувствовал силы Ханылева сопротивления или хотя бы веса; он поспешно бежал за ним, и сквозь гул собственной крови в ушах Кёнсун в одну секунду услышал его заливистый смех и что-то вроде «что ты делаешь», которое не звучало вопросительно. Ещё несколько ярдов Кёнсун пытался отогнать румянец от щёк, потому что держал незнакомого парня за руку, а она была до приятного тёплой, так что, Кёнсун подумал, было бы неплохо не выглядеть по-идиотски смущённо, как будто ему пятнадцать. Ему было семнадцать. Почти восемнадцать. Разница была буквально в пропасть.
Затолкав все ещё смеющегося парня в кабинет, Кёнсун захлопнул дверь за ними и закрыл её на замок; внутри уже ждали Минджун, Йесон и Соно, сидя на стульях за пюпитрами оркестра. Они выглядели почти каменными изваяниями, подсвеченными мягкими лучами солнца, проникающими сквозь полузакрытые жалюзи, не шевеля ни одной мышцей лица, когда Кёнсун обернулся к ним, пытаясь выровнять учащённое сердцебиение и сбившееся от бега дыхание.
В воздухе витал запах лака, видимо, совсем недавно была репетиция оркестра; в самой аудитории обычно хранились кубки и инструменты в плотных черных чехлах, расставленные у дальней от окна стены, а ещё нотные книжки, пюпитры и другой инвентарь; посреди кабинета, повёрнутое к нескольким рядам из стульев, стояло фортепиано, которое обычно использовали для распевок хора. «Роман из телевизора» никогда в жизни не использовали это помещение для репетиций, потому что оно было пропитано таким духом, который был чужд для их музыки – правильным, прилежным, классическим. Коричневые стены, обшитые деревянными панелями со звукоизоляцией, такого же цвета паркет и даже фортепиано. В общем, совсем не то, что их гараж.
Ханыль перестал смеяться. В большом помещении, каждая молекула воздуха которого была пропитана музыкой, его смех мелодично отражался от стен те самые несколько секунд до того, как он перестал. Он робко оглядел класс, где теперь находились только они впятером, и никого из них четверых Ханыль не знал и даже вряд ли помнил, что Кёнсун уже дважды ходил с ним на английский. Чхве вдруг подумал, должно быть, он напуган, потому что его улыбка сменилась полным непониманием и глаза расширились, и он стал похож на оленёнка Бэмби в своём апельсиновом свитшоте.
– Что происходит? – спросил он; Кёнсун слышал, что голос его не дрожал, и это так противоречило его внешности в тот момент.
– Ну здравствуй, Кван Ханыль, – сухо, словно подражая манере какого-то киношного героя, сказал Минджун.
– Мы знакомы?
– Пока нет, – Минджун встал с места и медленно обогнул невысокий пюпитр, приближаясь к блондину; его голос был низким и с нотками надменности, и так он разговаривал только когда был либо пьян, либо в вызывающем мурашки по всему телу предвкушении. – Но совсем скоро ты узнаешь…
– Хватит, – оборвал Кёнсун. Минджун закатил глаза, вскидывая руки. – Ты сядь на место, – Минджун сел, – а ты, – Кёнсун обошёл Ханыля, чтобы встретиться с ним глазами, – сядь вот сюда.
Чхве легонько толкнул его в преподавательское кресло посередине, чтобы он оказался лицом к остальным, и отошёл подальше, чтобы тот видел их как единое целое, как группу, потому что Кёнсуну было это важно. Ханыль должен был видеть, что они уже состоявшийся коллектив, и, возможно, это толкнуло бы его на мысли о том, чтобы сразу отказаться.
– Меня зовут Кёнсун, – представился Чхве. – Я лидер этой инди-группы под названием «Роман из телевизора».
– О, – лицо Ханыля вытянулось в искренней заинтересованности. – Мне говорили, что здесь есть такая, но я не думал, что она будет меня похищать.
– Нам нужно поговорить, – продолжил Кёнсун спокойно. – Мистер Д. сказал, что ты обязан попасть в нашу группу, но мы – как видишь – уже в полном составе.
– Угу, – он кивнул. – Я сказал ему, что было бы неплохо заниматься музыкой и дальше, но только не в оркестре или хоре, я такое не люблю. И что, он заставил вас?
– Там… Другие обстоятельства, но, в общем, да, – вклинился Минджун. Он прочистил горло, когда Кёнсун взглянул на него, и продолжил. – Короче, он сказал, что ты обязан выступить с нами в составе группы на осеннем фестивале, но не то чтобы мы в тебе нуждались.
– Я понимаю, – Ханыль активно закивал.
Он не выглядел, как какой-то дурак, Кёнсун подумал, возможно, всё будет гораздо проще, и он вправду просто откажется сам, раз он так хорошо все понимал.
Но Кёнсун рано обрадовался, потому что Ханыль усмехнулся и как-то оценивающе осмотрел их.
– Но даже если так, я хочу попробовать. Может, мой голос именно то, чего не хватало вашей группе?
– Ты даже никогда нас не слышал, – сказал Кёнсун, отчаянно хватаясь за ниточки рассудительности в его голове. – Ты даже ничего о нас не знаешь.
– Как и вы обо мне, – заявил он и встал со стула. – Вы здесь репетируете?
– Нет.
– Тогда приведите меня на свою репетицию.
– Нет, – отрезал Чхве. Его голос дрогнул, потому что на самом деле Кёнсун не должен был быть таким категоричным, и его трезвая, лишённая ярой ревности часть рассудка старалась подавить в нём зачатки бешенства.
– Тогда как же вы будете разбираться с директором?
Кёнсун поджал губы, а Ханыль по-недоброму улыбнулся.
– Я просто хочу послушать, посмотреть. Ничего такого. Возможно, мне правда не зайдёт, и тогда мы просто договоримся, я не буду придурком и помогу вам, – он медленно двинулся в сторону выхода, его пальцы коснулись ручки двери, аккуратно открывая замок. – Ну, а если мне понравится, то и вам понравится, обещаю.
И он вышел из аудитории, оставляя их в звенящей напряжением тишине. Кёнсун стоял с открытым ртом с тех самых пор, как Ханыль начал ставить условия, и не закрыл его до тех пор, пока через некоторое время Минджун не подскочил со стула, выругиваясь, а Йесон не заскулил где-то слева. К репетиционной начали сходиться школьники, и им пришлось покинуть её, и они разошлись по кабинетам, точно так же, как днём ранее, не сказав ни единого слова.
Этот Ханыль был не прост. Нужно было увидеть его в действии, чтобы поверить; для всех остальных он был милым парнем, похожим на лунного кролика, добродушным и общительным, но Кёнсун после того разговора видел в нём эти зачатки демонической силы, лисьей хитрости и крысьей расчётливости; Кёнсун буквально видел ауру вокруг него – тёмную, устрашающую. Он оказался гораздо хуже, чем они могли себе представить, потому что он знал, какая сила теперь была в его руках – совсем немного, но он был осведомлён. И самым страшным для Кёнсуна на тот момент было просто представить, как же Кван мог ею распорядиться.
После пятого урока они, голодные из-за пропущенного ланча и уставшие, поплелись к пикапу Йесона; Ханыль нагнал их на полпути на парковке, и тогда Кёнсун подумал, что нужно ставить машину гораздо ближе ко входу, чтобы можно было быстро слинять. Но Йесон ставил её всегда в одно и то же место, между машиной его приятеля с двенадцатого класса и стоянкой для велосипедистов, потому что там было безопасно для его «ласточки». Так вот, Ханыль нагнал их и сел им на хвост на своём родстере цвета электрик с опущенной крышей, и они выехали, даже ничего друг другу не сказав, включив какую-то дрянную музыку на магнитоле; Йесон выключил её на одном из светофоров. В машине было ещё более угрюмо и угнетающе, чем было прошлым вечером, и воздух внутри был свинцовым. Кёнсун немного дрожал из-за нервов, а его кресло тряслось из-за коленки разъярённого, но молчаливого Минджуна; Соно дремал, вжавшись в стекло и слушая музыку в наушниках. Йесон взволновано вёл машину, как и всегда.
Они подъехали к дому Минджуна, находившемуся в тридцати минутах езды от школы, и Ханыль, припарковавшись у обочины и выпрыгнув из машины, спросил:
– Вы кого-то ещё забираете?
– Нет, – ответили они хором; Минджун поспешно ринулся к дому, едва колёса пикапа коснулись заезда на платформу.
Они вылезли из машины и устало ждали, пока Йесон припаркуется на платформе, а затем – пока откроет гараж, и все это время Ханыль осматривал ровные домики улицы, где жил Минджун с семьёй, одинаковые двухэтажные с молочной облицовкой и гранатового цвета крышей. Этому району уже было лет десять, но он сохранился так, будто бы был построен и выставлен на продажу только полгода назад. Район тот был тихим и благополучным, практически в каждом доме жила семья с детьми, так что там обычно было довольно тихо, и репетициям никто не мешал; машину Йесон ставил так, чтобы через открытые настежь ворота гаража их не было видно. Они, правда, никак не решали этим проблему со звукоизоляцией, но за четыре года остальные жильцы улицы к ним привыкли, зная, что они не какие-нибудь там панки, что они не закатывают пьяные вечеринки от заката до рассвета – это они обычно делали на квартире у Соно, – да и вообще, что они довольно безобидные. Тем более, они соблюдали закон о тишине[1].
Они зашли в гараж, и Соно уселся на софу в глубине помещения, а Йесон достал из холодильника три банки газировки и дал по одной ему и Кёнсуну. Ханыль заинтересованно разглядывал плакаты и стеллажи, пока они справлялись с обезвоживанием; Йесон уселся в своё любимое кресло-мешок, и Кёнсун рухнул на него, потому что его собственное кресло было слишком близко расположено к любопытному блондину, листающему журналы о музыке, напечатанные в конце прошлого века; Йесон обнял его за талию, уткнулся подбородком в изгиб Кёнсуновой шеи и обеспокоенно следил за Ханом – Кёнсун чувствовал, как шевелится вслед за движениями парня голова старшего.
– Так это – ваша репетиционная, – констатировал Ханыль. – Вы что, правда репетируете в гараже?
– Да, – подал голос Йесон рядом с ухом Кёнсуна.
– Вау, какое ретро. Не думал, что в наше время такое ещё практикуют.
– Мы – инди-группа, – сказал Йесон.
Часть «инди» в слове «инди-группа» всегда имела огромное значение для Йесона, потому что эта часть была от слова «независимость», а слово «независимость» он даже набил себе предплечье, – так много для него было смысла в нём. Поэтому он неустанно повторял «инди-группа», когда ему только выпадала возможность.
– Я вижу, – усмехнулся Ханыль, изучая стопки пластинок. – И что же вы исполняете?
Он закончил осмотр и плюхнулся в бархатное кресло, и Кёнсун был готов воспламениться, потому что даже Минджун в своём же гараже не позволял себе такого нахальства.
В воздухе тускло освещённого гаража летали пылинки; Кёнсун смотрел в лицо Ханыля, который закинул ногу на ногу в расслабленном жесте, и видел в нём интерес, но смешанный с чем-то чуждым для их репетиционной. Он как будто своим вопросом проверял их, будто аттестовал, но для их музыки никогда не нужны были аттестации; они играли не для оценок, а для души, однако Кёнсун всё равно почувствовал смущение, как будто если он издаст хоть звук, Ханыль может его засмеять.
– В основном – каверы, – выдавил Чхве, садясь ровнее на коленках у Йесона. – Но своё тоже пишем.
– Выступаете?
– На школьных фестивалях, на городских мероприятиях иногда тоже. Концерты проводили пару раз, – ответил Йесон, поглаживая Кёнсуна по спине, чтобы он перестал напрягаться.
Ханыль закивал, почёсывая шею и переваривая эту небольшую информацию, и он выглядел как какой-то продюсер или что-то вроде того, потому что таким серьёзным было его лицо, будто он принимал решение, позволять им отправляться в мировое турне или же они слишком плохи для этого.
У Кёнсуна в ушах стучало сердце; он встал и снял джинсовку и, кинув её на напольную вешалку, стоящую рядом с выходом из гаража, решил немного размять шею, стараясь расслабить мышцы, напряжённые от нервов. Его раздражала эта атмосфера, в которую погрузилась его любимая репетиционная; в ней всегда было так приятно находиться, но только не в тот день, потому что в тот день в ней было столько странной, чужеродной энергетики, что Кёнсун почти не узнавал воздух, наполняющий гараж. Запах древесины смешивался со сладковатым запахом одеколона Ханыля, таким же чуждым, как его задница на Кёнсуновом бархатном кресле. И, если бы не Ханыль, они бы уже минут десять как принялись репетировать, но Кёнсун знал, что Минджун пытается справиться с агрессией – у него с ней правда были проблемы, – а остальные чувствуют себя недостаточно уютно, чтобы приняться за дело. В прочем, как и он сам.
– Хочу послушать, – сказал Ханыль; Кёнсун, до этого разглядывавший пустую улицу, плавящуюся от жаркого солнца, обернулся, и тот сидел в пол-оборота, смотрел прямо на брюнета. Кёнсун сглотнул. – Покажите, что вы умеете.
– Нужно дождаться Минджуна.
– Хорошо, – он кивнул, и Кёнсун подумал, что он слишком часто кивает. – Расскажите мне тогда немного о вашей группе. Кем вы вдохновляетесь?
– Нет, дружок, расскажи-ка о себе ты, – вдруг ответил Соно, вставая с пошарпанного дивана и приближаясь к барабанной установке. Кёнсун с Йесоном переглянулись. – Мы хрен знает вообще, кто ты такой. Я вот даже без понятия, как тебя зовут. Сколько тебе лет? Ты вообще хоть что-то в музыке смыслишь?
Чхве прикусил губу, потому что хотелось рассмеяться, ведь Соно так редко подобным образом разговаривал; ему было всегда трудно развязать язык. Но, находясь в их святая святых и глядя на то, как самодовольный новичок пачкает подошвой закинутой на коленку ноги Кёнсуново драгоценное кресло, и слушая, как он разговаривает, Соно, видимо, просто не сдержался. Чхве хотелось обнять его, но он не сдвинулся с места, наблюдая за картиной с порога гаража.
– Ха, – Ханыль ухмыльнулся и встал с кресла, шаркая по полу, приближаясь к Соно. – Меня зовут Кван Ханыль, я ученик одиннадцатого класса, мне восемнадцать лет. Неделю назад я приехал из Токио, где находился полгода на стажировке в компании отца и учился по обмену. Я занимался вокалом и в Токио, и до этого в Лос-Анджелесе, где прожил прекрасные семнадцать лет. И да, я знаю немного о музыке.
Он приблизился к Соно, глядя чёрными глазами на его маленькую фигуру на табуретке за барабанной установкой, и стукнул пару раз по хай-хету[2], и звук разбил тишину на мелкие кусочки, заставляя содрогнуться ушные перепонки. Соно был непоколебим, на его лице не шевельнулась ни одна мышца; Кёнсун подался вперёд и, приблизившись к ним, убрал руку парня от установки, чтобы он больше ничего не трогал. Ханыль вопросительно взглянул на брюнета, и Кёнсун смирил его строгостью в глазах.
И они смотрели друг на друга, глаза в глаза, ещё некоторое время, может, минуты две, а может, пару столетий; Кёнсун напряжённо всматривался в его лицо с острыми линиями, пытаясь не сгореть от изучающего взгляда больших карих глаз, сосредоточенно рассматривающих его лицо, его волосы, а потом – снова лицо, будто он пытался запомнить каждую частичку его внешности, чтобы потом составить фоторобот или ещё чего; Кёнсун видел капельки испарины на приоткрытом от разделённой пополам длинной чёлки высоком лбу, и его медовая кожа контрастировала теплотой оттенка с высветленными волосами. Его розовые губы медленно изогнулись в странной лёгкой ухмылке. Кёнсуновы пальцы продолжали сжимать его запястье, прямо как тогда, когда они бежали по коридорам, но в этот раз Кёнсун делал это неумышленно – он вообще об этом забыл.
– Что за хрень? – вдруг послышался голос Минджуна за Ханылевой спиной.
Кёнсун поспешно убрал руку и прочистил горло; пару секунд взгляд Ханыля всё ещё был прикован к нему, Кёнсун чувствовал это, но сам на него больше не смотрел, борясь с подскочившим в одно мгновение уровнем адреналина в крови. Минджун подошёл ближе и с характерным лязгом с силой поставил на столик тарелку с сэндвичами с курицей. Он мог бы своим напором прожечь дыру в полу или в лице Ханыля одним своим взглядом, но этого не происходило, так что он просто пошёл к своей гитаре и перекинул её широкий узорчатый ремень через плечо, подключая тут же усилитель.
Минджун играл на басу, и бас был создан для Минджуна, а Минджун был создан для баса, и сочетание их на выступлениях заводило толпу сильнее, чем вся их группа в целом, будь они без Минджуна и его баса. Минджун всегда перевоплощался, становился самым настоящим профессионалом на публике, его движения всегда были страстными и оттого – потрясающими, и игра на гитаре была такой, что Кёнсун бы с удовольствием рассказывал об этом своим детям и внукам, называя Минджуна олицетворением духа бас-гитаристов.
Шатен взял из стеклянной вазы медиатор и засунул его в зубы, сосредоточенно проверяя строй гитары, и, лишь его пальцы коснулись струн, вдоль позвоночника Чхве пробежалась стайка мурашек. Кёнсун сглотнул нервно. Тот из-под опущенных ресниц взглянул на них и провёл пальцами по струнам, и обдающий жаром звук разлетелся по помещению. Ханыль сложил руки на груди и отошёл немного в сторону.
– Хочешь посмотреть на нас в действии? – сказал Кёнсун, воодушевлённый энергетикой Минджуна. – Что ж, попридержи тогда свои штаны.
Йесон вскочил с кресла и, подхватив со стойки свой голубой «телекастер»[3], тоже взял медиатор из вазы. Обычно Кёнсун играл на ритме, потому что во время пения ему нужно было сосредотачиваться на ровности голоса, а с недавних пор взялся и за клавиши, но в тот раз от всё ещё удушающего его волнения Кёнсун боялся, что будут трястись пальцы. Так что он взял свою старенькую «Женевьеву» (это было её имя, и она, в отличие от Йесоновой гитары, была модели «статокастер» – самой типичной для электронных гитар, потому что на другую у него пока не набралось денег, ведь Кёнсун копил на грёбаный «гибсон лес пол»[4]), воткнул её провод и микрофоны – у всех были микрофоны – в усилитель и встал у своей высокой стойки, оглядываясь на остальных. Соно расправил плечи и взялся за белые длинные палочки; его угрюмое бледное лицо с бордовым оттенком тинта на узких губах встретилось с его взглядом, и он кивнул, показывая, что готов. Йесон убрал чёлку с лица пятернёй и нахмурил брови, цепляясь длинными пальцами за тонкий гитарный гриф.
Кёнсун выдохнул и повернулся лицом к Ханылю, который, лишь палочки Соно ударили по натянутому пластику большого барабана и тарелке хай-хета, задавая ритм песни, немного дёрнулся, убирая руки с груди, и его запястья просто повисли в воздухе на уровне боковых швов, а заворожённое лицо приоткрыло рот. Кёнсун подумал, что, возможно, он ни разу не видел живого выступления музыкальных групп.
Чхве подхватил ритм, и по помещению поплыла музыка с ровным базовым тактом игры барабанов и вскоре – красивыми переплетениями нот соло-гитары; Минджун аккуратно добавил свою партию, скользя по грифу пальцами и прикрыв глаза. Кёнсун дождался окончания вступления, будто оно длилось несколько часов, отпустил гитару из рук и взялся за микрофон, прижимаясь к нему губами, и с его уст слетели первые строчки песни «Kiss» прекрасных Pale Waves, потому что её они усердно репетировали ещё в августе, но она бы не подошла для фестиваля, потому что второй голос им казался там лишним, так что у них пока что не было возможности выгулять её. А ещё ему нравилась партия соло-гитары в ней с нотками тёплого ретро, так что она была идеальной. Идеальнее была бы только сама «Television Romance», но для её исполнения им нужны были бы клавиши.
– Я знаю, что хочу тебя этим вечером, – на этой строчке Кёнсун поднял полуприкрытые глаза на Ханыля, и тот сглотнул, но Кёнсун этого за громкой музыкой не слышал. – Почему большинство ночей ты хочешь проводить в моей голове? – и его пальцы вцепились в гитару, лад за ладом заскользили по струнам во время аккордов, а кусок пластика в правой руке завибрировал от боя. – Ты – зыбкая мечта, твоя любовь чиста, – Кёнсун улыбнулся и взмахнул волосами, потому что тело отдавалось музыке всё больше, и сердцебиение ловило такт и сливалось с ним. Хотелось двигаться, скакать; песня была такой замечательной для того, чтобы погружаться в неё полностью. Так что Кёнсун подчинился.
Оранжевое закатное солнце осветило фигуру Ханыля со спины, и в помещении стало немного темнее, и песня будто стала интимнее; на строчке «думаю, мы разные» Кёнсун вскинул подбородок, всё ещё буравя персиковое лицо стоящего в паре ярдов от него парня, и после припева, на бридже, Кёнсун застыл, вцепившись разгорячёнными пальцами в микрофон, глядя ему прямо в душу, потому что Кёнсун хотел вызвать в нём те же самые эмоции, какие дарила ему эта песня, эта музыка. «Крепко поцелуй меня, словно я разбиваю твоё сердце».
По дороге, полускрытой от них пикапом, проехалась машина, Ханыль вздрогнул в тишине, и они взорвались проигрышем; Кёнсун оттолкнул стойку, ухмыляясь, закрывая глаза и снова приходясь по струнам боем, скача на месте и загибаясь, тряся головой и короткими чёрными волосами, чувствуя эйфорию, растекающуюся по телу вместе с кровью, переполняя его счастьем, которое Кёнсун испытывал только во время выступлений. Ему нравилось то, как они звучали и выглядели, с чуть влажными от пота на лице волосами и приоткрытыми во время игры ртами. И ему нравилось, как Ханыль смотрел на них; в его взгляде блестело восхищение.
Последние аккорды и удары по барабанам, и Кёнсун с прикрытыми глазами ещё раз полоснул медиатором по нагретым струнам и опустил голову, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение; его одышка звучала из колонок. Пару секунд они стояли в выжидающей тишине. Парни не торопились начать разговаривать, а Кёнсун боялся поднять глаза на Ханыля, потому что минутой ранее пытался сожрать его взглядом, поглощённый песней. И вдруг – так внезапно, что Кёнсун вздрогнул – тот захлопал, и когда Чхве посмотрел на него, он улыбался.
– Вау, – выдохнул он. – Это было классно. Правда.
Ему стало легче. Сзади справа послышалась самоуверенная усмешка Минджуна.
– Какого года эта песня? Звучит так в стиле ретро.
– Две тысячи восемнадцатого, – сказал Кёнсун, снимая с себя гитару и ставя её на место.
– О, – он поджал губы. – Всё равно круто.
– Ну так что? – подал голос Минджун. – Послушал-посмотрел? Свалишь?
Ханыль ухмыльнулся, разминая плечи, будто он собрался драться, и Кёнсун настороженно отошёл к Минджуну, чтобы взять его под предплечье и заставить быть спокойнее. Острый на язык Минджун уступал мускулистому парню в телосложении; если бы вышло так, что Ханыль задумал бы вырубить басиста, у него получилось бы это с первого раза. Минджун даже бровью не повёл.
– Послушал, посмотрел, – спокойно сказал Ханыль. – В вас, определённо, что-то есть. Все эти плакаты, пластинки, лампы с жижей, – он обвёл руками их репетиционную. – Вы сами. Вы выглядите как пародия на «корпорацию тайна». У вас есть пёс?
– Будет, если ты присоединишься к группе, – не выдержал Минджун и дёрнулся, но Кёнсун встал прямо перед ним, глядя ему в глаза, чтобы он перестал. Его челюсть напряглась; за Кёнсуновой спиной послышалась усмешка.
– Слушай, наша группа гораздо важнее всего этого дерьма типа исключения и всё такое, – Йесон поставил гитару на пьедестал и, сложив руки на груди, подошёл ближе, вставая перед ними с Минджуном; он был только чуть-чуть выше Кёнсуна, может, дюйма на полтора, и Ханыль выглядел рядом с ним таким же гигантом, каким он казался рядом со брюнетом. – Так что мы можем сейчас просто послать тебя, если ты продолжишь вести себя как конченный придурок.
Ханыль, приподняв подбородок в самоуверенном жесте, смотрел на Йесона сверху вниз, но плечи старшего были такими напряжёнными, что, не видя его лица, Кёнсун понимал, что тот не поддастся на эти попытки Ханыля его запугать. Йесона вообще было сложно запугать, да, он часто волновался, но это никогда не был пустой и бессмысленный страх.
– Хорошо, – выдохнул Ханыль. – Ладно. В следующий раз я покажу вам, на что способен. У меня сегодня ещё тренировка, так что извините, – он наклонился чуть в сторону, чтобы посмотреть на Кёнсуна и Минджуна. – А ты, – он смотрел Чхве в глаза, – просто вау.
И он подмигнул Кёнсуну, подхватывая свой рюкзак со старого кресла, и ушёл из гаража, оставляя их – его – в дичайшем недоумении. Шлейф его парфюма последовал за ним, и через несколько минут уже не было физических следов его присутствия в музыкальном логове; только Ханылев уверенный громкий голос отскакивал то и дело от серых стен гаража, повторялся в голове Кёнсуна раз за разом, как неисправная пластинка. Кёнсун смотрел на пустую улицу в узком проходе между гаражом и пикапом и ничего не говорил, ни о чём не думал и не шевелился, временами сглатывая вязкую слюну.
– Он конченный, – подвёл итог Минджун. Соно, в совсем чуждой для него манере, кивал, попивая холодную воду из бутылки. – Хрен с горы. Кто он такой?
И Минджун до самого позднего вечера ругался, покрывая Ханыля благими матами; Йесон кусал губы, обдумывая их план действий и занимаясь заполнением анкеты для фестиваля, потому что это нужно было сделать уже в кратчайшие сроки, но он никак не мог сосредоточиться, в конце концов оставив её на столе с незаполненной графой «количество участников». Соно пытался выучить новый ритмический рисунок. Кёнсун сидел на пороге гаража и со стеклянными глазами вглядывался в асфальт под ногами. Сердце даже спустя пару часов не прекращало колотиться в висках.
Минджун плюхнулся рядом с ним на пол, когда время перевалило за девять, и солнце спряталось за горизонтом из миниатюрных коттеджей, а на улице сгустились сумерки; зажглись лампочки высоких фонарных столбов, расставленных по периметру. Внутри гаража Йесон включил неяркий свет. Минджун накинул на Чхве свою лёгкую куртку, потому что вечером всегда сильно холодало, и от дневного зноя ничего не оставалось, будто его никогда не существовало; Кёнсун криво улыбнулся ему и продолжил сверлить взглядом дырки в фундаменте дома через дорогу.
– Я мог бы дать ему по его смазливой роже, – сказал вдруг парень, и Кёнсун перевёл пустой взгляд на него, потому что знал, что он не мог бы. – А ты меня остановил. Зачем? Он тебе понравился?
Кёнсун фыркнул.
– А ты бываешь тупее, чем обычно, – ответил парень, и тот толкнул его в плечо.
– Нам нельзя его трогать, – присоединился к беседе Соно, садясь справа от Кёнсуна на пол и вытягивая недлинные худые ноги. – Он сказал, что у его отца есть компания. Если есть компания, значит, есть и власть. – Парни похлопали ресницами, глядя на него. Соно закатил глаза. – Боже. Вы такие тупые. Думаю, именно из-за этой власти Мистер Д. так о нём печётся. Я думаю, его отец теперь член попечительского совета и будет инвестировать в школьную казну, если, конечно, он уже не сделал это.
– Богатенький сынок, – протянул Минджун и, поставив руки за своей спиной, упёрся ими об пол и чуть наклонился назад, всматриваясь в вечернее небо. Звёзд ещё не было видно, так что, Кёнсун думал, он просто размышлял. – Чертила.
Соно поправил на голове маленькую бордовую бини и достал из кармана своего объёмного чёрного блейзера пачку дорогих сигарет с кнопкой, которые с завидным бесстыдством своровал у матери, и протиснул одну из них меж губ. Парень нахмурился, поджёг сигарету и глубоко затянулся, после чего выпустил белую глыбу дыма из носа и закрыл глаза. В их группе, кроме Соно, никто больше не курил – по крайней мере с таким постоянством, – и он считал это одной из своих фишек, а ещё курение помогало ему привести нервы в порядок, так он говорил. Кёнсун не знал, из-за них или нет, но он был самым спокойным человеком из всех, кого Чхве встречал в своей жизни; ему было глубоко плевать на всё и на всех, кроме, разве что, «Романа из телевизора».
– Горько, – прошептал он, разрушая повисшую тишину. – Надо менять.
Даже если ему переставал нравиться какой-то вид сигарет, он всегда докуривал пачку до конца. Он не слыл расточительностью. Но если ему нужна была какая-то дорогая вещь, будь то новая краска для волос или пара кед с умопомрачительным дизайном – Соно просидел бы на одной крупе месяц-другой, но купил бы необходимое.
– Или бросить.
– Нет, это слишком просто. Найти действительно твой сорт сигарет – это задача, к решению которой нужно долго идти, перепробовав кучи дерьма. А бросить – дело одного дня. Если ты, конечно, не слабак.
Кёнсун приобнял его, кладя на его узкое плечо голову, и Минджун сделал то же самое с Чхве; позже Йесон сел со стороны Минджуна, потому что его бесил запах сигарет, и присоединился. Они были похожи на домино, и их первое звено даже не собиралось падать, поэтому они чувствовали себя в безопасности.
В вечернем сентябрьском воздухе плавал дым, медленно растворяясь в безветренной улице. Они то и дело тяжело вздыхали по очереди, но никто больше не проронил ни слова. Наступали тёмные времена. Они не были уверены, что справятся, не были уверены, что смогут отстоять частичку «инди» в их инди-группе. Они проходили за четыре года через большое количество разных ситуаций, они были и на грани распада, и в секунде от ошеломительного успеха, который в конце концов просто выскользнул прямо из их шершавых пальцев. Они проходили через пресловутые стычки интересов, ссоры, нападки со стороны безмозглых подростков, которым их музыка не нравилась. Они проходили через депрессию и творческий кризис.
Но они ещё никогда прежде не проходили через Кван Ханыля.
1
Закон, регулирующий время и объём допустимого шума в жилых помещениях.
2
Хай-хет – двойная тарелка, установленная на одном стержне. Часто основной ритм ведётся именно с помощью хета.
3
Телекастер – модель электрогитары «Fender» с простым дизайном, будто из цельной древесины.
4
Гибсон лес пол – модель электрогитары, задавшая одно из направлений в движении гитарной промышленности. Он легко узнаваем по своей форме, ассоциирующейся с женской талией, характерным звукоснимателям и корпусу, собранному из дорогого красного дерева. Эта гитара многими признается самой универсальной. Стоимость варьируется от 1200 до 2500 тысяч долларов.