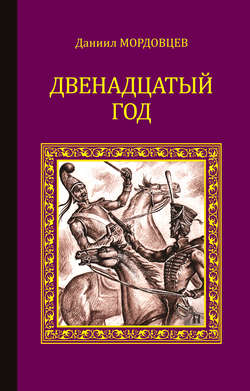Читать книгу Двенадцатый год - Даниил Мордовцев, Даниил Лукич Мордовцев - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
12
ОглавлениеХодить сон по улици
В билесенький кошулонци.
Так рисуется сон в украинской колыбельной песне. Сон – в белой рубашке, но он же и с белой, как иней, бородой. Сон очень стар. Он так же стар, как и мир Божий… Вечно ходит он по миру, невидимый и неосязаемый, и часто является там, где его не просят, и уходит оттуда, где ждут его как доброго гения. Сколько сон принес утешения людям – этого люди и выразить не в состоянии… Когда Адам и Ева изгнаны были из рая и очутились в неведомой пустыне, сон первый принес им успокоение: он, не слышно ни для кого, перенес их обратно в потерянный рай и подкрепил их усталые; разбитые страданием члены… Как добр был сон, когда после ужасного дня закрыл усталые, и распухшие от слез вежды Гекубы и снова показал ей все, что было уже навеки потеряно. Живым встает в моем воображении этот седобородый старик, который бродит во тьме южной ночи по «стану Атрида» и своею доброю рукою закрывает глаза героев от тех ужасов, которые совершились или должны были совершиться. Бродит он и по стогнам священного Илиона в последнюю ночь перед его падением, грустно бродит, зная, что в следующую ночь ему придется бродить по грудам развалин и по кучам пепла… И у Цезаря он гостил в последнюю ночь перед «идами марта» и навевал ему грезы о прошлом, сулил светлое будущее, закрыв собой ножи, которые в ту ночь уже точились на лысую, прикрытую лаврами голову даровитого автора «комментариев»…
Ходит сон и по Петербургу, и по островам его, бродит и по Каменному острову, и по Черной речке… но упрямый и капризный старик не ко всем заходит. Охотнее идет он в бедные, жалкие, грязные лачуги и дает успокоение усталым, опечаленным, бедным, голодным… Вон как ни гонит его от себя усталый человек, а старик так и лезет на него, так и валит его с ног… А вон мечется на роскошной постели изнеженное тело, горит огнем от бессонницы, а сон нейдет – не любо ему в богатых палатах, на мягких ложах…
Пришел сон и к Лизе, и к Соне. Спят они в своих постельках, задернутые белыми, как борода у старого сна, прозрачными занавесками. И видится Лизе, что она, в казацком платье, в кивере и с пикой, едет по Елагину острову верхом на коне. Это конь курьера Кавунца… Далеко, далеко едет Лиза от папы… Бедный папа! Как он будет плакать о своей Лизе – будет искать ее, как Дуров ищет Надю… А Лиза возьмет в плен Наполеона и привезет к маме… А то он, говорят, отнимет у всех молоко и простоквашу… Прощай, папа, прощай, Соня… Едет Лиза, едет… и вдруг из ведра с овсом выскакивает мышь в виде Саши Пушкина и кричит: «Стрекочущу кузнецу!..» И Лиза от испуга просыпается…
Старый сон и на Соню навевает грезы, только странные такие: на Лизиной постельке спит не Лиза, а дедушка Державин в бархатных сапогах, а у него в руках Лизина кукла, «Графиня Тантанская»… А тут стоит курьер Кавунец, и что у него ни спросит Соня, на все он отвечает: «Не могу знать! Не могу знать!..» И дядя Магницкий спрашивает Кавунца: «Кто расплескал океаны?» А Кавунец отвечает: «Не могу знать».
Бродит старый сон из конца в конец земли, бродит неугомонный, на клюку опираючись, на людей дрему насылаючи. Одолел сон-дрема и Магницкого… Поручил ему Сперанский составить экстракт из обширной записи Румовского Степана Яковлевича, попечителя Казанского округа, о новых мерах Казанского университета – для доклада государю… Далеко за полночь сидел Магницкий над этой запиской, ему в голову все лез Наполеон, топающий ногою в шар земной… И видится Магницкому, что Наполеон дает ногою пинка земному шару, и земной шар вертится как кубарь в пространстве, а на высокой скале стоит Сперанский, в ореоле славы и блеска, и говорит Наполеону: «Не доплеснешь до меня океанами, не замочишь морями ног моих – высоко стою я…» И хочется Магницкому столкнуть Сперанского с высоты – и он сталкивает его… Ух! Погиб Сперанский, а на его месте стоит Магницкий в ореоле величия… И гордый Наполеон протягивает ему, Магницкому, руку, а Магницкий отворачивается от него и видит государя… «Ваше величество! – робко шепчет он. – Ваше величество!» – «Не могу знать!» – отвечает государь… И Магницкий видит, что это не государь, а Кавунец… Ух!.. И Магницкий просыпается – записка Румовского не дочитана… Зло иногда шутит старый сон, ох, как зло!
Только Сперанского не одолевает старый сон… Далеко за полночь шуршат бумаги в кабинете Сперанского, и по временам скрипит перо, да скрипит так неровно, нервно… Груды бумаг наметаны на огромном письменном столе с ящиками. На столе, на конторке и на полу разбросаны книги, брошюры, рукописи… Беккарий, Монтескье, Вентам, Делольм, «Конституция Англии», «Вестник Европы» – иные книги раскрыты, другие переложены закладками, исчерчены и испещрены пометами!.. У стола сидит Сперанский и перелистывает толстую, увесистую, четко и красиво переписанную тетрадь и, по временам заглядывая в книгу – «Конституция Англии», делает карандашом отметки, то в книге, то в рукописи… Иногда голова его откидывается на спинку высокого, изогнутого стула, и он несколько минут остается так, с закрытыми глазами… Можно подумать, что он спит и бредит… «Уже он начинает склоняться к мысли о возможности представительства», шепчет он: «Начало уже сделано в учреждении министерств; остается определить круг деятельности „совета“ и возложить на него „ответственность“… Надо ожидать и дальнейшего согласия»… И нагнувшись к рукописи, он на поле приписывает карандашом: «Представительство страны и ответственность министров: есть меры, кои одно лицо, даже и всемогущее, не может или не должно принимать на свою ответственность. Таковы суть подати и налоги. Несвойственно и неприлично верховной власти представляться в виде непрерывной нужды и умножать народные тягости. Пусть рассчитывают министры, присуждает совет; и государь должен только прилагать к ним печать своего необходимого утверждения[38]. Министры же должны быть ответственны пред представителями страны…» Затем он встал и в волнении заходил по кабинету, по временам нервно встряхивая головой, как бы отгоняя от себя рой волнующих его мыслей… «Он сам сказал недавно: „Я на пути к реформе – и рад этому, ибо могу дать моим верным подданным то, чего не могли и не умели дать мои предки“», – шептал он, с любовью останавливаясь пред портретом юноши с короною на голове… А ночь уже близится к исходу, а сон все не смеет постучаться в кабинет, заваленный бумагами и книгами… Где-то ударил церковный колокол – раз… два медленно, ровно, глухо гудит колокол… Сперанский подходит к окну и задумывается…
У Данилы у попа —
В большой колокол звонят,
В большой колокол звонят —
Знать Параню хоронят, —
звучит у него в голове, вместе со звоном колокола эта странная детская песенка, которая и его самого переносит в детство… Никогда он не может слышать церковного звона, чтоб у него в мозгу и в сердце не зазвучал горький для него, грустный, много напоминающий мотив:
У Данилы у попа —
В большой колокол звонят…
О! Как давно это было и как далеко!.. Мише Сперанскому не больше восемнадцати-девятнадцати лет, а Паране, дочери соседа, попа Данилы, не больше шестнадцати… Миша учился во владимирской духовной семинарии и уже дошел до философии. На закат Миша из Владимира приходит домой в родное село, приходит пешком!.. Эх! Да и куда бы тогда не занесли его молодые ноги! – и в ад, и в рай, в Иерусалим и в преисподнии земли… Ходит Миша в лес за ягодами, за грибами, и Параня ходит с подружками… Эти встречи в лесу, беседы наедине… Забили тревогу молодые сердца, и Параня слышала, как под философским подрясничком сильно колотится философское сердце Миши, и Миша слышал, как под белою сорочкою трепыхается девическое сердце Паранино… И Паранины розовые губы испытали, как горячи губы, с которых иногда срывались непонятные для Парани философские тонкости, и губы философа Миши познали вкус Параниных губ – «слаще меда и вина…». И порешил Миша философ скорее пройти богословие и, получив сан иерея в родном селе, жениться на Паране… Но не к тому готовила Мишу судьба: когда Миша собирался идти во Владимир уже на богословский класс, Параня захворала оспой и в несколько дней умерла… Миша думал, что с ума войдет, как в церкви у попа Данилы, у отца Парани; гудел колокол по Параниной чистой душеньке и как день и ночь в безумной голове его звучал напев:
У Данилы у попа —
В большой колокол звонят…
Знать Параню хоронят…
И похоронили Параню, а Миша не сошел с ума… Но он дал себе безумный зарок: в память Парани никого не любить и никогда не жениться; а завоевать себе званием и трудами другую невесту – церковь: пройти все богословские мудрости, надеть на себя черную рясу и клобук и идти дальше – до епископской шапки, до архиепископской и, наконец, до белой шапки митрополита… И Миша было сдержал слово: какие силы гиганта проявил в пятьдесят лет!
И куда девался тот маленький Миша еще – не Сперанский, а просто попович, Михайлин сынишка, который, соскочив с печки, где он зарывался во ржи, сохшей на печи, выбегал босиком на двор и бегал по снегу, желая убедиться, может ли он, когда вырастет большой, выдерживать трудные подвиги аскетов – голодать, ходить бовиком и в веригах?.. И куда девался тот Миша, уже не просто Миша, а Сперанский, sperans – «надежды подающий», как прозвал его отец ректор, – Миша быстроглазый и звонкоголосый, так бойко переводивший из Корнелия Непота? Куда девался философ Миша, собирающий грибы вместе с Паранею?.. Миша – богослов, уже звезда семинарии, а там он уже в Петербурге, в лавре, работает как вол и весел, остроумен… Память у него бездонная прорва, в которую все валится без разбору, и все там остается, систематизируется и бьет ключом знаний… «Ты что, Сперанский, носишь тулуп на одно плечо?» – спрашивают его товарищи-бурсаки. «Приучаю себя к собольей шубе…» И вот у него теперь уж и соболья шуба – он первое лицо в государстве после царя…
– К заутрене звонят, – шепчет он, задумчиво стоя у окна и глядя на просыпающуюся реку, – пора и мне спать… Эх!.. «У Данилы у попа – в большой колокол звонят…» Звоните, звоните! Да будет благословенна память прошлого.
И Кавунцу старый сон навевает грезы, воспоминания молодости… Спит Кавунец на крыльце, прикрывшись шинелью, и грезится ему, что он парубок, что еще его не брали в «москали»… Косит он зеленую траву и поет:
Ой, любив я дивчинку Кулину,
Та носив я до Кулины калину…
Только во сне Кавунцу и вспоминается его родная Украина, а наяву он не позволяет себе и думать о ней: «Сказано – служба…» Если б его даже спросило начальство: «хочешь ли ты, Кавунец, домой, на побывку?» – он, наверное, отвечал бы: «Не могу знать! Про то начальство знае». И Кулину свою он не смеет днем вспоминать, и только во сне приходит к нему его первая любовь, его «товстокоса Кулина», которой он носил калину и свое казацкое сердце… Зачерствело теперь это сердце: вместо Кулины в нем приютились только казенные пакеты и вытеснили из сердца и родину, и первую любовь… Но это только кажется… Да, Кавунец, кажется? – «Не могу знать!»
Спит и Саша Пушкин. И его неугомонную, курчавую головку угомонил старый сон. И грезится ему, что он – старый, старый старичок, такой, как дедушка Державин, – «уж и мышей не давит», – смешная нянька! Какие глупости говорит. И подходит к Саше другой старичок, в парике и в красных чулках, и говорит: «Как ты смеешь насмехаться надо мной, клоп этакой! Знаешь – кто я? Я – автор „Телемахиды“… Я бессмертный Тредьяковский! А ты – ничтожество: ты умрешь – и никто об тебе не вспомнит; а мое прелестное произведение „Стрекочущу кузнецу“ Россия вечно будет помнить». И Тредьяковский исчезает, а вместо него приходит Черномор, о котором няня рассказывала, и говорит так хорошо, лучше даже, чем дедушка Державин:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…
– Няня! Няня! – кричит Саша, вскакивая с постели.
– Что ты? Что с тобой? – испуганно спрашивает няня.
– Ко мне Черномор приходил…
– Господь с тобой… Спи, спи, неугомонный…
– Ах, няня! Да я даже помню, что он мне говорил.
И мальчик, воображение которого воспалено сказками старой няньки, повторяет стихи, навеянные ему тревожною, сонною грезою: «У лукоморья дуб зеленый…»
– Ох, Господи! – стонет нянька: – и сна-то ему нет. Ох, Заступница!
Но мальчик скоро опять засыпает.
А сон все бродит, опираясь на свою клюку, и словно дождем посыпает грезами сонных людей. Целый мир видений в распоряжении седоволосого старика – есть и светлые видения, есть и мрачные, мучительные.
Старику Державину грезится, что он лежит в мрачном могильном склепе.
Душит его могильная затхлость, а в мрачном воздухе, словно летучие мыши, носятся тени тех, кого он пережил в своей долголетней жизни, и холодными крыльями задевают его похолодевшее лицо. Только в одном уголку склепа светится огонек, но такой зловещий, словно глаз нечистого, и этот огонек освещает гробовую крышку, а на крышке – корону. Тихо, тихо поднимается крышка на этом гробе, а из гроба поднимается мертвое лицо с остеклевшими глазами. Ужас и трепет! – это лицо «Фелицы». «А, Гаврило Романович! – говорит Фелица. – ты забыл меня… Ты теперь другим подслуживаешься?.. Так помни, что у меня был Шешковский». – И гробовая крышка опять захлопнулась за нею. Но вслед затем открываются двери склепа, и входит Шешковский. Старик в ужасе просыпается.
– Ох, – стонет он, – куда девались мои молодые сны? Теперь или бессонница тебя мучит, или страсти лезут в очи, лишь только закроешь их… Ох, старость, старость!
А Карамзину грезится, что он сидит в темном архиве и перебирает свитки рукописей. И кажется ему, что он сам живет в удельный период, и то он целует крест киевскому князю, то черниговскому, а кругом «котора», «розратье». Мысль, постоянно вращающаяся в древности, и сны приносит ему из далекого прошлого: то встанет перед ним Василько в кровавой рубашке и с выдолбленными глазами, то «слепой Якун» в виде Тургенева. «Зачем ты ослепил меня? – плачет он. – Я вовсе не был слеп». Это историческое сомнение приходит к историку в образе сонной грезы и наводит его на вопрос: действительно ли Якун был слеп?.. То грезится архивный кот в образе старого академика-немца, но только в бархатных сапогах Державина, и говорит: «Я не Василий Миофагов, а тот кот, который пришел с Рюриком из-за моря, чтобы есть новгородских мышей». То грезится «бедная Лиза» в образе Ярославны, которая, омочив «бебрян рукав» в Неве-реке, плачется на него, «аркучи тако»: «Ох, забыл ты меня, забыл свою бедную Лизу ради Рогнеды… все забыл ты ради твоей истории… О, противная лгунья! Противная история! Никто столько не лгал и не лжет, как она, – и я удивляюсь, как еще могут заниматься ею умные люди. О, лгунья старая! Лгунья, низкопоклонница, салопница-ветошница!..»
– А Тургенев прав, что я заработался, – бормочет Карамзин, просыпаясь и весь обливаясь потом. – У меня уж воображение расстроено, мысль путается. Мне верзится во сне Бог знает что такое…
И он силится отогнать от себя могильные призраки, хочется ему погрузиться в интересы текущей жизни; но странное дело: они стали ему менее близки, чем интересы мертвецов!
– Лгунья история!.. А ведь это не созданье сонной грезы, а продукт моих сомнений… Разве мало лгала история, начиная от Гомера и Тацита и кончая Шлецером и Татищевым? Правда, она лгала неумышленно, она ошибалась, но все же историческая истина – это храмина, построенная на песке. В истории нет ничего прочного: открыт новый документ, выкопана какая-нибудь могильная надпись, и все здание, построенное на песке, рухнуло… Сколько российских историков явится после меня и осудят меня за ошибки. Эти судьи мои, может быть, еще не народились, но они народятся, и мой труд будет поставлен на последнюю, на заднюю полку российских книгохранилищ… Но я надеюсь, что судьи мои не упрекнут меня в пристрастии… Но кто знает!.. Бедная, бедная история!
И он снова засыпает, и снова седобородый сон навевает на его усталую голову тревожные грезы, грезы сомнений и как бы исторических предвидений. «Лгунья история! Слепая, льстивая старуха…»
С Каменного острова старый сон перебрался через Невку и на Черную речку. Бредет он по берегу этой речки, повевая своею седой бородой и навевая на людей дрему и грезы. Пробирается старый сон на дачу Шрейбер, что против Строганова парка, и входит в небольшой деревянный домик, утонувший в зелени. На дверях домика, на медной дощечке написано:
«Иван Андреевич Крылов». Неслышными шагами вошел сон в этот домик; темно, тихо в передних комнатах. Сон дальше, к кабинету, где светится огонек и слышится шепот и сдержанный смех…
– Ах, ты, моя прелестница, цыпочка моя! – шепчет кто-то тихо, сдержанно – это Ивана Андреевича голос. – Как ты давно не была у меня…
– Тише, тише! – шепчет женский голос. – Там кто-то ходит…
А это ходит сон. Заглядывает он в кабинет и видит: вся комната завалена бумагами и книгами: книги на столе, на окнах, на полу, на кушетке; на полу же и синий фрак с золотыми пуговицами, и шляпа, и подтяжки. На письменном столе беспорядок ужасный: бумаги, книги, платки, все это разбросано хаотически, а на самом видном месте лист бумаги, на котором на скорую руку набросано:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник…
…………………………………
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка.
Что дальше – не видать, ибо на этом самом месте, на исписанном листе, стоят рядом крохотные женские ботинки с розовыми бантами, а вправо от них – женская соломенная шляпка «пастушка», тоже с розовыми бантами, и высокий черепаховый гребень из женской косы…
– Прелестница моя! Прелесть моя милая! – доносился шепот из-за ширм.
– Ох, больно, Ваня… ты задушишь меня, – протестует женский голосок.
– Услада моя!
Сон махнул рукой и побрел далее, бормоча: «Тут мне нечего делать…»
И побрел сон на запад, далеко-далеко, где еще недавно лились реки человеческой крови.
Бродит сон у западных границ русской земли, бродит по Тильзиту, по полям, по деревням. Везде войска, пушки, обозы, табуны лошадей… С востока повевает уже предрассветный ветерок и перебирает белые пряди волос старого бродяги-сна… Заглядывает сон в бедную, об двух окошечках, черную избушку, и белеющее с востока небо заглядывает туда же, в малые оконца. На дощатых нарах, устланных соломой, из-под уланской солдатской шинели выглядывает бледное, хотя сильно обветрившее и загорелое лицо молоденького уланика. Совсем ребенок! Лицо знакомое. Это лицо той девочки, что когда-то резвилась на берегу Камы и носилась иногда по полю на лихом коне. Да, это ее лицо, сильно изменившееся: детские очертания сменились более определенными линиями и изломами; выражение стало более характерно; но и во сне это молодое лицо не покидает какая-то сдержанность и сосредоточенность. Губы что-то шепчут. Видно, старый сон баюкает спящую грезами, видениями, картинами… Да, она видит себя в битве – как врезался в нервы этот свист пуль противных! И пули свистят. Но что до них! Вот гибнет раненый кто-то… Это, должно быть, Панин… Нет, не он: это тот молоденький, калмыковатый, симпатичный казацкий хорунжий, с которым она ехала от самой Камы. Это Греков. Она бросается к нему и поднимает его с земли. Она с трудом выводит его из-под пуль в небольшой лесок и кладет его голову к себе на колени… Какая-то дрожь пробегает по ее телу, не холодная, но жаркая дрожь, такая дрожь, какой она прежде никогда не испытывала. Раненый открывает глаза и, уткнувшись головой в ее колени, целует их, обнимает слабеющими руками ее стан, ноги и что-то шепчет ей такое жаркое, захватывающее дух… «Надя! Надя! Я люблю тебя, давно люблю! Я знаю – кто ты… Я полюбил тебя еще тогда, когда, помнишь, во время похода с Камы на Дон мы охотились в Даниловке и ты уснула на траве… Я люблю тебя, Надя! Жизнь моя, счастье мое!» Ох, что это с нею! Голова кружится, сердце перестает биться, в ушах и сердце что-то ноет, плачет – о! – да это страшнее, чем в пылу битвы…
И она мечется на своем соломенном ложе. Шинель сбилась к ногам. Руки бессознательно расстегивают ворот рубашки, обнажают грудь… не грудь, а груди… Ей душно, она задыхается, хочет вскрикнуть – и просыпается.
Краска так и залила лицо, когда она взглянула себе на грудь – на открытую грудь.
– Фу, какой сон! (А на сердце так хорошо – трепетно, жарко, а признаться не хочется.) Вот был бы срам, если б кто взошел, – но я заперла дверь… Какой сон!
Не такие грезы сыплет старый сон на спящую голову того, который искромсал Европу на куски, как тыкву для каши, и варит эту кровавую кашу с человеческими телами десятки лет, – того, который повыгонял королей и королев из их дворцов и владений, для которого земля становится тесною. Вот он лежит, скукожившись, такой маленький, тихенький, словно ребенок. Постель проста и вся бела, как колыбель ребенка. На белых подушках рельефно оттеняется маленькое тело великого императора. Он лежит на левом боку, скорчившись, как спят дети. Круглая, гладко остриженная, точно точеная, голова положена на подушку так, что античный профиль горбоносого императора ясно обрисовывается на белом полотне. Глаза закрыты, как у мертвеца, – так спокойно все лицо спящего и высокий лоб его. Ноги согнуты и поджаты так высоко, что вся фигура императора представляет фигуру младенца в том положении, в котором каждый младенец находится в утробе матери. Странное дело, глубокая тайна природы: до могилы, до последнего и вечного сна своего, сонный человек бессознательно принимает то положение, в котором он в первые месяцы своей утробной жизни находился во чреве матери. Таким утробным младенцем кажется теперь и Наполеон на своем простом императорском ложе: обе руки – эти страшные, загребистые руки, захватившие короны и скипетры у десятка владетельных особ и перекраивающие шар земной, словно не по мерке сшитый кафтан, эти маленькие, пухленькие, беленькие ручки засунуты между поджатых колен, а из-под сбившейся простыни видны голые подошвы маленьких ног – ну, совершенно спящий ребенок, прикорнувший после игры в мяч!
38
Из отчета, представленного Сперанским императору Александру I («Сборн. импер. истор. общества», т. XXI, 449).