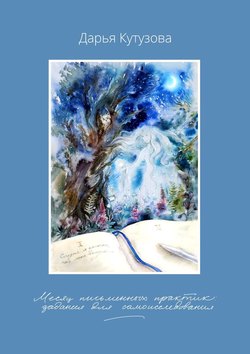Читать книгу Месяц письменных практик - Дарья Кутузова - Страница 4
ПИСЬМЕННЫЕ ПРАКТИКИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Как работают письменные практики
ОглавлениеМедленное сосредоточение: дать вызреть
Пишем мы гораздо медленнее, чем думаем.
Когда мы пишем, нам гораздо дольше удается удержать внимание на одной идее, она успевает развиться, дозреть, прорасти в другую идею. И это может быть качественно другая идея, по сравнению с теми, которые приходят, когда мы просто «вертим что-то в голове», «ходим кругами» и «перескакиваем». В частности, когда мы говорим, что «думаем о чем-то весь день», если бы мы регистрировали нажатием кнопки каждый раз, когда мысли об этом приходят нам в голову, у нас получилось бы суммарно за день примерно две минуты. То есть, даже когда мы садимся и пишем 10 минут о чем-то, мы можем пройти гораздо дальше в своих осознаваниях и рассуждениях, чем если бы мы думали об этом весь день. Более того, мы можем возвращаться к тому, на чем мы остановились в рассуждениях, и продолжать – с большей легкостью, чем в устной речи или при размышлениях в одиночестве.
Право на время для себя
Более того, в повседневной жизни время подумать о себе, о своих ценностях, мечтах и убеждениях – это роскошь, особенно если вы – женщина. Голова у нас обычно занята конкурирующими списками дел, и нас постоянно отвлекают люди, которым от нас что-то надо, или нам приходится отдавать часть внимания на отслеживание потенциальных опасностей в окружающей среде. Когда мы решаем: «я выделю 10-15-20 минут на то, чтобы побыть с собой и писать», – это другая позиция. Мы даем себе и другим понять, что мы достойны того, чтобы находиться в безопасности и чтобы нас не дергали. Мы достойны того, чтобы относиться к себе, как к самоценности; слишком часто оказывается, что женщины привыкли чувствовать себя хорошими, только выполняя ту или иную обслуживающую функцию.
На границе привычного и неизвестного: ускользание и нейропластичность
Когда мы пишем, мы можем изложить сначала то, что нам известно и привычно, все знакомые (жеваные-пережеваные) мысли, и дальше оказаться на границе известного и привычного – и пока еще неизвестного, того, что возможно знать. На этой границе и происходит развитие, возникают новые понимания. Просто думая в одиночестве, нам может быть труднее выйти на эту границу.
Знакомое и привычное может быть глубоко протоптанной колеей, ловушкой, не позволяющей нам смотреть на происходящее с неожиданной стороны и видеть новые решения. Поэтому, когда мы получаем наводящие вопросы извне, в них очень часто есть какая-то новизна, какой-то оригинальный взгляд, отличный от привычного нам. Письмо по наводящим вопросам «расшатывает» привычную стабильность, выталкивает нас на новую территорию, позволяет ускользнуть из ловушки. Как мы знаем теперь из нейронаук, это ведет к созданию новых синаптических контактов между нейронами, и со временем может достаточно заметно изменить структуру нашего мозга. Письменное слово – это, по словам Кэтлин Адамс и Деборы Росс, практика «самонаправляемой нейропластичности».
Адресат письма
Когда мы пишем, мы можем осознанно выбирать, к какому адресату мы обращаемся – это могут быть люди, живые или уже умершие (или еще не родившиеся), те, с кем мы (были) реально знакомы или те, о которых мы только слышали или читали; это можем быть мы сами в прошлом, будущем или альтернативном настоящем (которое могло бы быть, если бы в прошлом мы совершили какой-то другой выбор и приняли какие-то другие решения); это могут быть существа, живущие в мирах воображения других людей и через это пришедшие в разделенную-общую сферу культуры; это может быть Что-то Большее, как бы мы его себе ни представляли. Когда мы думаем, мы не всегда отслеживаем, к кому мы обращаемся при этом. Однако от адресата нашего обращения будет зависеть и стиль, и смысл обращения. Судье мы будем рассказывать о том, что у нас происходит в жизни, по-другому, нежели лучшей подруге, или человеку, с которым мы в ссоре. Внимательный выбор адресата, к которому мы обращаемся, когда пишем, может очень сильно продвинуть нас в осознавании.
Голоса во внутреннем сообществе
Более того, когда мы пишем, мы можем отслеживать не только адресата, но и адресанта – того, с чьей позиции мы говорим. Ведь каждый из нас не представляет собой внутренний монолит, единство. Скорее, мы сообщество позиций и голосов, пытающихся перехватить друг у друга микрофон и стать «халифом на час» (или хотя бы на пять минут). В лучшем случае, если мы много поработаем над этим, мы можем стать внутри достаточно дружелюбным и конструктивным сообществом голосов под руководством сострадательного и влиятельного внутреннего управляющего. В худшем случае – у нас внутренняя какофония, перебранка, хронический конфликт. Когда мы пишем, мы можем позволить каждому из внутренних голосов высказаться в безопасной обстановке, выслушать его и занять позицию по отношению к тому, что этот голос говорит, какие у него желания и потребности, страхи и мечты.
Знакомство с внутренним цензором
Один из важных внутренних голосов, который может оказаться для нас более заметным и слышимым, когда мы начинаем писать – это голос внутреннего цензора, внушающего, что мы не вправе так или иначе думать, чувствовать и говорить. Личные письменные практики по определению приватны – мы пишем только для себя, позаботившись о том, что это больше никто не прочтет. Тем самым мы пытаемся обойти самоцензуру, т.к. никакие изменения не возможны до тех пор, пока мы не научимся быть честными с собой. Лучше познакомившись со своим внутренним цензором, мы можем понять, как он до сих пор влиял на нашу жизнь (а не только на то, что и как мы пишем), и решить, согласны ли мы с этим и готовы ли продолжать дальше в том же духе, или мы готовы экспериментировать и что-то менять.
Текст как объект для рефлексии
Записывая свои переживания и мысли, мы создаем текст – материальный (или потенциально материальный) объект, существующий отдельно. Мы можем на него взглянуть со стороны; мы можем вернуться к нему в другой момент времени, а он останется неизменным (в отличие от воспоминаний в нашем сознании, которые так или иначе модифицируются всякий раз, когда мы к ним возвращаемся). Мы можем им поделиться с другими людьми, если захотим. Мы можем превратить его в искусство, если захотим, или использовать для того, чтобы менять мир к лучшему. Когда у нас накапливается достаточно много записей, мы можем, перечитывая их, выделять паттерны, узоры, изучать динамику (и делать прогноз, например). Когда у нас есть записи, мы можем в большей мере становиться исследователями себя, авторами собственной жизни.
Настройка, выражение переживаний и авторство
Любые развивающие и терапевтические письменные практики состоят из трех фаз: (1) настройка; (2) экспрессивное письмо; (3) рефлексивное письмо. Когда мы пишем (или печатаем, но когда пишем – в большей мере), наши размышления втелесненны – мы дышим, координируем движения глаз и рук, чувствуем напряжения в теле, видим изменения почерка в зависимости от уровня стресса и эмоционального состояния. Это дополнительная «петля обратной связи», позволяющая нам стать более целостными, интегрированными. На фазе настройки мы обращаемся вниманием к дыханию, к телу (дальше в книге есть отдельный небольшой раздел, посвященный настройке). На фазе экспрессивного письма мы входим в поток того или иного переживания и запечатлеваем его в словах – выражаем свое состояние. На фазе рефлексивного письма мы перечитываем написанное и отмечаем, какие процессы шли в нас под воздействием настроенности на это переживание и под воздействием его выражения. Мы делаем шаг в сторону, или назад, или поднимаемся над потоком переживания, обретая больше степеней свободы для дальнейшего поведения. Мы смотрим на то, что было создано, тем самым уже отдавая его прошлому, и выбираем свою позицию и свои следующие шаги – осознанно создаем будущее. Подробнее о том, как писать рефлексивный отклик, – в соответствующем разделе.