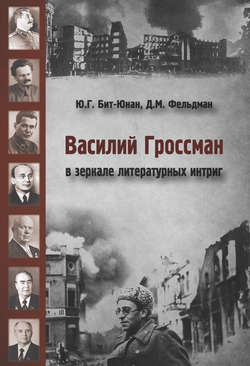Читать книгу Василий Гроссман в зеркале литературных интриг - Давид Фельдман, Д. М. Фельдман - Страница 10
Часть I. Дебют и репутация
На перепутье
ОглавлениеХарактерно, что большинство литературоведов, опубликовавших работы о Гроссмане, почти не уделило внимания университетскому периоду его жизни. Исключение – книга Гаррардов. Но в начале 1990-х годов еще не было возможности ввести в научный оборот некоторые из ныне доступных источников.
Отметим, что начало сохранившейся переписки – декабрь 1925 года. Мать Гроссмана жила по-прежнему в Бердичеве. Отец же работал в городе Сталине.
История этого топонима отражает специфику эпохи. До 1923 года официальное название города – Юзово. В просторечии, соответственно, Юзовка. Назван в честь основавшего там шахтерский поселок предпринимателя Джона Юза (Hughes). Затем появилось другое название – Троцк. В честь Л. Д. Троцкого, занимавшего пост народного комиссара по военным и морским делам СССР. Однако в 1924 году городской Совет утвердил очередное переименование – согласно фамилии генерального секретаря большевистской партии. На исходе 1920-х годов оно снова изменено. Уже не Сталин, а Сталино. Таким и оставалось до 1961 года. С тех пор – Донецк. Административный центр Донецкой области.
Гроссман-старший работал в учебной и научно-исследовательской организации – Сталинском институте рабочей медицины. Позже она была переименована в Донецкий областной институт гигиены и патологии труда.
Специализировался «инженер-химик» в области газоанализа. Это было особенно востребовано: где шахты, там и угольная пыль, ядовитые, а также взрывоопасные рудничные газы, их концентрацию нужно постоянно контролировать. Сына в Москве порою навещал, а летом 1925 года они вместе ездили в отпуск – на Черное море.
Почту в 1925 году доставляли отнюдь не бесперебойно. Так, сын 2 декабря сообщал: «Дорогой папа, получил сегодня твое второе письмо. Извини меня, действительно напрасно обвинял тебя в долгом молчании. Сам свинья. Меня очень огорчило твое здоровье».
Болезни отца были профессиональные, горняцкие. Один глаз поврежден еще в молодости, слух все хуже становился, что сына весьма беспокоило. Но помочь он не мог. О себе рассказывал: «Ты знаешь, теперь я доволен собой, работаю, много читаю (счастливая усталость после долгого безделья), и единственная тяжесть – это мамино здоровье».
Мать часто болела. И, похоже, не сообщала бывшему мужу о болезнях. Сын же с отцом медицинские проблемы обсуждал: «По-моему, ей следовало бы съездить в Киев, она посоветуется с врачами и немного развлечется от ужасной бердичевской обстановки. Когда я приезжаю на пару недель, я чувствую, как давит этот паршивый город. А ей там жить годы, да еще и прикованной к кровати. Тяжело».
Что до упомянутого ранее «долгого безделья» московского «вузовца», неизвестно, чем оно обусловливалось. Вероятно, речь шла о пренебрежении любой деятельностью, кроме учебных занятий. А причина – депрессия, постоянное чувство одиночества.
Затем настроение отчасти изменилось, Гроссман с увлечением и успехом работал в химической лаборатории, но удачливым себя не считал: «Полного, стопроцентного удовлетворения я не чувствую. Во всяком случае, мне теперь несравненно лучше, чем когда ты меня видел в свой приезд. Вообще, мне кажется, быть вполне удовлетворенным и счастливым может только дурак. Следовательно, я не дурак».
Меж тем осенне-зимний семестр в университете заканчивался. О планах своих Гроссман сообщил: «На Рождество, видно, послушаюсь твоего совета, поеду в Бердичев дней на 10–14».
Как следует из ранее сказанного, Бердичев сам по себе вряд ли привлекал «вузовца». Но там жила мать, ждали и другие родственники.
В переписке Гроссман-младший обсуждал свои университетские проблемы, рассказывал о московских новостях. По его словам, жизнь в столице оказалась чрезмерно беспокойной. С получением диплома будущий химик планировал уехать из Москвы и работать вместе с отцом.
На летние каникулы Гроссман иногда приезжал в Сталин. Не только для отдыха, еще и для лабораторной практики в отцовском институте. Бывал также в Бердичеве – у матери и ее родственников. Там, правда, лишь отдыхал.
В Сталин добраться не каждый разудавалось. Так, 15 февраля 1927 года, отвечая на письмо отца, Гроссман сообщал: «Ты спрашиваешь, приеду ли на лето поработать к тебе? Ей-богу не знаю, как еще сложатся дела, может быть, у меня останется от занятий только месяца полтора, и мы вместе махнем куда-нибудь просто отдохнуть».
Московская командировка отца планировалась тогда весной. Гроссман ждал встречи, о себе же рассказывал: «Занимаюсь я теперь много, готовлю зачет по органической химии, это один из самых крупных экзаменов, занимает, по крайней мере, месяца 11/2. Развлекаюсь умеренно, был сегодня в Большом театре на “Сказании о граде Китеже” и чуть не погиб от тоски. Не понимаю оперы совершенно».
Командировки Гроссмана-старшего на предприятия области были довольно частыми. 8 октября сын ему сообщал: «Дорогой батько, был очень рад получить твое письма из Сталина. Завидую тебе, что ты завален работой, что начинаешь работать в шахтах (ты себе, вероятно, не завидуешь). Если мне удастся к Рождеству выкроить 2–3 недели, обязательно приеду в Донбасс».
Одна из постоянных тем в письмах к отцу – «квартирный вопрос». Население Москвы стремительно увеличивалось за счет тысяч и тысяч приезжих, и «вузовцу», не желавшему остаться в общежитии, приходилось выбирать загородные варианты. Гроссман о них сообщил в том же письме: «У меня хороших новостей нет, продолжаю искать комнату…»
Была возможность и не искать комнату за городом. Старшая двоюродная сестра, Надежда Моисеевна Алмаз, дочь Елизаветы Савельевны, жившая в Москве, часто приглашала поселиться у нее, о чем сын и сообщил отцу в том же письме.
Личное дело Алмаз хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Она, согласно анкете, была почти на восемь лет старше Гроссмана, родилась в Бердичеве, там же закончила коммерческое училище. Когда началась мировая война, стала сестрой милосердия, работала в различных госпиталях. Осенью 1916 года участвовала в деятельности социал-демократических организаций на Украине. Официальный большевистский стаж – с июля 1917 года. В гражданскую войну – на армейской партийной работе. Летом 1920 года переведена в Москву. Затем – ответственный секретарь редакционно-издательского отдела Всероссийского центрального совета профессиональных союзов. Работала также в редакции газеты «Профсоюзное движение»[59].
Она пыталась и продолжить образование, поступила во 2-й МГУ, но пришлось вернуться на партийно-профсоюзную работу. С июля 1925 года – референт и личный секретарь одного из руководителей Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных союзов – С. А. Лозовского.
Сообразно партийному статусу, получила достаточно просторную московскую квартиру, где она и муж жили с 1924 года. Там нашлось бы место и кузену, тем более что он был частым гостем. Однако Гроссман переехать отказывался.
Другая постоянная тема переписки с отцом – совершенствование профессиональных навыков. Гроссман отметил: меняются его планы, связанные с университетской лабораторией, так как «в этом месяце не попаду в нее, вероятно, только в середине ноября или даже в декабре, меня это не очень беспокоит, работы хватит – буду прорабатывать технический анализ».
Впрочем, к октябрю 1927 году «вузовец» более не увлечен химией. О чем и сообщил тогда же: «Батько, я подумал о том, как незаметно во мне произошла большая ломка – ведь почти с 14 лет до 20 я был страстным поклонником точных наук и ничем решительно, кроме этих наук, не интересовался и свою дальнейшую жизнь мыслил только как научную работу. Теперь ведь у меня совершенно не то. Если быть совершенно откровенным, то на месте старых разрушенных “идеалов” я не воздвиг ничего определенного, во всяком случае, мои интересы перенеслись на вопросы социальные, и мне кажется, что в этой области я буду строить свою жизнь, работать на этом “подприще” (sic! Ю. Б.-Ю., Д. Ф.)».
Гроссман, понятно, знал, как пишется слово «поприще». В шутку использовал «народную этимологию», акцентируя, что профессия химика уже не увлекает.
Отсюда, правда, не следует, что успел выбрать другую, причем вполне конкретную профессию. Напротив, планировал использовать ранее выбранную, только уже на прикладном уровне, готовясь к переменам: «Химик из меня, безусловно, выйдет не блестящий; конечно, я свободно справлюсь с текущей работой на производстве, хватит и уменья, и знаний, но химик – двигатель науки, исследователь, это, мне кажется, не по мне».
10 октября он вновь сообщал о бытовых условиях. Точнее, возможности их улучшить: «Дорогой батько, пишу пару слов, так сказать, по делу. А дело вот в чем. Я нашел комнату за городом за 25 р[ублей] (с отоплением и всякой штукой), комната не ахти, но есть 4 стены, пол и потолок, семья тихая, так что можно будет заниматься без помехи, а это самое важное для меня».
Двадцать пять рублей для «вузовца» – сумма значительная. И похоже, собирался жить не один. Что и обозначил шутливым намеком, имитируя хорошо отцу известный – по литературным образцам рубежа XIX–XX веков – стиль писем купеческого сына, заискивающего перед «отцом-самодуром». Указал, что «необходимы некоторые расходы для организации постели и прочих элементов семейного уюта, посему слезно прошу Вас, папаша, не откажите мне в моей просьбе и вышлите 20 р. ассигнациями, как положение мое бедственное, и я безработный до мозга костей».
Квартиру пришлось еще менять не раз, а был ли «семейный уют» создан в октябре 1927 года, и если да, то надолго ли – судить трудно. Сведений в письмах отцу нет.
Однако позже к самой теме «семейного уюта» Гроссман вернулся. Так, 22 января 1928 года сообщил: «Ну вот, батько, ты просил меня написать тебе по этому поводу, и написать, ну, о моих «киевских похождениях», как ты выражаешься, могу сообщить: если будет на то воля Аллаха, то, по-видимому, я женюсь, если не сейчас, то через год; нравится мне мой предмет очень (“влюблен” я стесняюсь писать), скучаю по нем смертельно, взаимностью полной я пользуюсь; кажется, эти условия на языке математиков “необходимы и достаточны” для женитьбы. Ну вот, пожалуй, и все об этом. Как-нибудь напишу подробней (если интересуешься), а теперь чего-то не хочется».
Речь шла об А. П. Мацук. Дома ее именовали на украинский манер, Ганной, а чаще Галей. Так она и названа в письмах будущего мужа.
Кстати, в публикациях Губера первая жена Гроссмана названа Галиной Петровной. Вероятно, публикатор решил, что Галя – уменьшительное имя, вот и указал то, которое считал полным.
К теме брака Гроссман возвращался редко. О деятельности же «социальной» упоминания часты. По мнению Гаррардов, влияние Алмаз оказалось тут едва ли не решающим фактором. Лозовский, ее непосредственный начальник, с 1921 года стал генеральным секретарем так называемого Профинтерна – Красного интернационала профессиональных союзов.
Как известно, эта международная организация, созданная летом 1921 года в Москве, объединяла иностранные профсоюзы, декларировавшие цели не только экономического, но и политического характера. Что с необходимость подразумевало сотрудничество с Коммунистическим интернационалом – так называемым Коминтерном.
Американские исследователи подчеркивают, что благодаря кузине Гроссман не только увлекся социальной проблематикой, но и планы на будущее строил иные, нежели раньше, до приезда в Москву.
Планы, а также возможные препятствия обсуждал с отцом. В том же письме 22 января 1928 года сказано: «Ты спрашиваешь, как я мыслю себе общественную работу. Господи Иисусе, всякая работа есть общественная, если объектом работы являются не только колбы и бюретки».
Так называемая общественная работа или общественная нагрузка была обязательным элементом жизни каждого «вузовца». Прежде всего, это выполнение различных поручений факультетской организации Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи – комсомола. Поручений главным образом агитационно-пропагандистского характера. От них уклониться не могли даже не ставшие комсомольцами. Гроссман, конечно, не пытался, что и подчеркнул в письме. Но отец на другое намекал.
Имелась в виду перспектива карьеры в комсомоле, хотя бы и на уровне низовом. Без этого доступ к «социальной» деятельности был фактически закрыт – в университете.
Гроссман, судя по официальным документам и письмам, комсомольцем не был. Среди рабфаковцев такое – редкость. Но и причина очевидна. Вступление в комсомол подразумевало дополнительную проверку биографических данных, и тогда могло бы выясниться, что о «социальном происхождении» в анкете «вузовца» сказано невнятно.
Отец и сын понимали друг друга с полунамека. И Гроссман-младший вновь отметил, что профессию до поры менять не намерен: «Ты говоришь о хлебе насущном, ведь я учусь “на химика” и буду работать как химик (вероятнее всего)».
Соответственно, университетское образование должно было обеспечить «хлеб насущный» – в период подготовки к деятельности «социальной». Это вновь акцентировалось: «Я только хочу сказать, что химия для меня не является целью главной и единственной».
Далее сын конкретизировал область новых интересов. Указано было, что всего более привлекают «два вида деятельности: политическая и литературная (их можно совместить)».
Речь шла о журналистике. Но там период «штурма и натиска», начавшийся в гражданскую войну, давно закончился, новая иерархия уже сформировалась, и Гроссман отметил: «Я прекрасно знаю, что явись я сейчас в ЦК ВКП [(б)] или в редакцию толстого журнала и предложи свои услуги, то мне предложат закрыть дверь за собой с наружной стороны».
Следовало другие пути искать. Почему и деятельность журналиста, подчеркнул Гроссман, только «перспектива, так сказать, цель, и думаю, что в своей повседневной работе мне постепенно удастся приблизиться и приобщиться к этой работе. Ведь все впереди, ты это сам говоришь. Из этого не следует, что надо сидеть, сложа руки, потому что не успею оглянуться, как все будет позади. Время – это самый коварный зверь; с ним шутить опасно. Рассуждаю я как змий мудро и рассудительно, но, откровенно говоря, в моем нынешнем “бедственном” положении на меня иногда нападает такая тоска и черное безразличие ко всему, что вешаться впору. Но ничего, надеюсь увидеть более светлые, осмысленные дни».
Обсуждались и новости семейные. Гроссман сообщил: «Ты спрашиваешь о маме. Мама физически чувствует себя хорошо (сравнительно конечно), нога почти не бунтует, почки не дюже важно; душевное состояние у нее скверное – очень уж одиноко и тоскливо жить в Бердичеве; я тайком удивился ее мужеству – в такой неприглядной обстановке сохранить бодрость, живую душу, регулярно заниматься с учениками, массу читать, не опускаться и крепко удержать себя в руках – это очень, очень много. И так жить могут люди с большой внутренней жизнью, большой силой души».
Болел и отец. К советам врачей он весьма скептически относился, что сына тревожило: «Батько, а касательно того, что доктора тебе категорически запретили работать в шахтах, то, ей-богу, нельзя к этому подходить с наплевательской точки зрения. Нельзя значит нельзя. Либо передай эту работу помощнику, либо, если это никак невозможно, то вообще оставь эту работу. Ты пишешь, что у тебя “другого выхода нет”, но ведь спускаться в шахты, когда это смерти подобно, меньше всего похоже на выход. Тогда, по моему мнению, не надо откладывать на осень покинуть Сталин, а осуществить это сейчас. И еще, дорогой мой, я хочу сказать тебе, что если в твоем желании остаться в Сталине до осени хоть какую-либо роль играет мысль о том, что ты не сможешь, уехав, помогать мне, то я категорически против этого. Этого ни в коем случае не должно быть. Плавать я немного умею и безусловно не утону, а если малость хлебну соленой водички, то ничего кроме большой пользы из этого не извлеку. Чуешь, батько?»
Гроссман-старший мог бы сменить место работы, даже и в столицу переехать. Его ценили. Но жалованье донбасского горняка намного превосходило то, что предложили бы в Москве. Потому и не спешил он с переездом.
Судя по цитируемому письму, отец все же собирался в столицу съездить. Для начала – договориться о новой работе. Сын ждал его буквально через неделю-другую, предлагал в своей комнате поселиться.
Чем тогда завершились отцовские переговоры – неизвестно. Вскоре он в Сталин вернулся, и 30 марта сын отправил письмо, где спрашивал: «Что с шахтами, начали работать уже? Смотри же, не лазь в них без крайней нужды, пускай молодые “лазають” (sic! – Ю. Б.-Ю., Д. Ф). Напиши мне обязательно поскорей».
О своих новостях тоже рассказал. Стараниями Алмаз он был привлечен к деятельности Профинтерна, даже присутствовал в качестве технического сотрудника на 4-м профинтерновском международном конгрессе, который начался 17 марта 1928 года.
Поручали «вузовцу» обработку документации. С этой задачей вполне справился, о чем и сообщил не безгордости: «Надина комната превратилась в настоящее советское учреждение. 2 машинистки трещали с утра до вечера, и я – как управ[ляющий]дел[ами] – важно диктовал им. Вчера, слава богу, закончили. Вышло почти 70 страниц».
Обработанную документацию Алмаз передала заказчикам из Коммунистической академии. Тогда это и вуз, и научно-исследовательское учреждение, объединявшее несколько институтов. По словам Гроссмана, «начальство сей труд одобрило. Будем денежки скоро считать. Возможно, что на днях будет еще одна работа».
Гроссман обозначил выбранный путь. Для начала – сотрудничество с изданиями Профинтерна, затем и литература. Описан и досуг: «Вчера пошел (по собственной инициативе) в театр – “Горе уму”».
Речь идет о нашумевшей тогда постановке комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в театре В. Э. Мейерхольда. «Вузовец» не одобрил новации модного режиссера, о чем и сообщил, имплицитно ссылаясь на рассказ А. П. Чехова «Архиерей»: «Скажу, как отец-эконом говорил – не ндравится мне это, не ндравится»[60].
Цитата указывала, что мнение, возможно, обусловлено консервативностью. Однако и выражено было оно недвусмысленно: «К чему дурацкая символика и искусственные конструкции. – Не ндравится».
Согласно письму, Гроссман собирался и спектакли мейерхольдовских антагонистов посмотреть – в Московском художественном академическом театре. О новом увлечении отцу сообщил опять не без иронии: «Ведь я решил стать театралом».
Увлекшись театром и «социальными» задачами, «вузовец» пренебрегал учебными занятиями. О том отцу и сообщил, добавив, однако, что вновь приступил к учебе. Но более интересовали его летние планы: «Да, батько, мне предложили замечательнейшую вещь – на два месяца поехать в самые заброшенные углы Туркестана – почти на отрогах Памирских гор».
Туркестаном в ту пору традиционно именовали территории Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии. Готовилась профинтерновская экспедиция социологического характера, и Гроссмана в ее состав могли включить – по ходатайству влиятельной кузины: «Если дело выгорит, я поеду, чего там, – ведь такой случай может наклюнуться разв 100 лет».
Заманчивым было не только путешествие. Главное, можно сказать, подступы к журналистике. Восточная тематика считалась тогда актуальной. Пропагандистская установка – «социалистическое преобразование Востока».
Журналистика, правда, была очень дальней перспективой. Гроссман все еще снимал комнату в подмосковном дачном поселке, до университета и обратно добираясь, тратил ежедневно по нескольку часов. О чем и рассказывал отцу: «А в Вешняках моих снег, сосны и тишина, в этом тоже большая прелесть, очень большая, и все ж таки очень утомительна эта езда взад и вперед. Ну, ладно, посмотрим».
59
См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 107. Учетно-партийная документы [Алмаз Н.М.] См. также: Там же. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1370. Л. 69–72.
60
Ср.: Чехов А. П. Архиерей // Чехов А. П. ПСС. Т. 10. М.: Наука, 1977. С. 190.