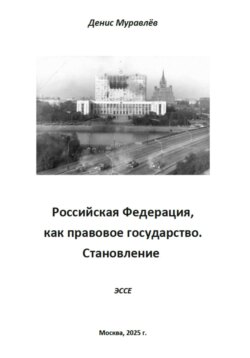Читать книгу Российская Федерация, как правовое государство. Становление - Денис Николаевич Муравлёв - Страница 4
3. Политика правительства Егора Гайдара и социальноэкономические условия, в которых происходил подлог правового поля (законодательства) России в 1990–1993 годы. Референдум по вопросу о доверии к власти 1993 г.[5]
ОглавлениеПроцесс конституционного реформирования (как фактическое видоизменение властных структур, так и его документальное оформление) шёл на фоне экономического спада, развала промышленных связей, обострения национально-территориальных конфликтов, катализатором которого стали либеральные СМИ, муссировавшие тему межэтнической розни, локальных войн в разных регионах на территории СССР, либерализации цен правительством Е. Гайдара[6], резкой инфляции при падении оборотов промышленности (т. н. «стагфляции») и, как следствие, резкого массового обнищания населения, отдавшего свои кровно заработанные средства на приобретение частных долей в ещё недавно общенациональном социалистическом имуществе, обесценивания приватизационных вкладов (именных счетов) советских граждан, подмененных в процессе на приватизационные чеки на предъявителя, т. н. «ваучеры», введённые по инициативе Анатолия Чубайса[7], что привело к экстренной массовой сдаче за бесценок трудящимися гражданами СССР полученных от государства безвозмездно или даже в некоторых случаях выкупленных ими у государства «ваучеров» (долей участия в общенациональных предприятиях) в руки промышлявших ваучерами коммерческих структур и в дальнейшем – к передаче госсобственности будущим российским олигархам и иностранным инвесторам, в т. ч. через торговлю изъятыми у масс народа ваучерами на залоговых «спецаукционах».
О драконовских принципах расчёта цены на передаваемые трудящимся коллективам госпредприятий пакеты акций госпредприятий как законодательном фундаменте финансовых рычагов для последующего изъятия за бесценок у трудящихся граждан СССР купленных ими на несколько зарплат вперёд акций госпредприятий в условиях гайдаровской гиперинфляции см. в Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 г. («РГ» за 9 июля 1992 г.) и прочих президентских и правительственных документах, всё время менявшихся и вводивших в заблуждение читателей своей новизной. В т. ч. согласно «Закону о приватизационных вкладах», подписанному Ельциным Б. Н., за «отказ должностного лица в выдаче гражданам СССР (РСФСР) долей участия в госпредприятиях» (в том числе причитавшихся трудовым коллективам при покупке акций государственных предприятий) или финансовых компенсаций предусматривалась лишь административная ответственность госчиновника в виде незначительного штрафа. Уголовная ответственность за правонарушения против частной собственности была введена в РФ гораздо позднее, уже после передела государственной собственности.
Всё это сопровождалось пропагандой в СМИ зарубежных методик голодания.
Поэтому конституционное реформирование как таковое не интересовало рядовых избирателей – граждан СССР – их интересовали на тот момент (1992–1993 гг.) вопросы элементарного выживания, что выразилось в апатии при голосовании на референдуме 25 апреля 1993 года по вопросу о доверии к власти в РСФСР. Кроме того, тут сыграла свою роль традиционная инертность и политическая дезориентированность населения. А на некоторый процент активности при голосовании за реформы Ельцина Б. Н. повлиял страх перед окончательным общим развалом в стране, а также надежда напуганных рядовых законопослушных граждан на наведение хоть какого-то порядка в период обесценивания личных доходов и царившего бандитизма. Безмолвие основной массы избирателей на референдуме 25 апреля 1993 года по вопросам о доверии к власти и о поддержке ельцинских социально-экономических реформ (см. статистику в «РГ» за 27.04.1993 г. с комментариями от 05.05.1993 г.), либо трактовка на страницах «РГ» отрицательного ответа по этим вопросам как носящего «консультативный характер» дало обеим ветвям власти, как «реальной» (т. н. исполнительной, она же – законодательная: страна управлялась не по законам, а Ельцинскими указами), так и формально законодательной дополнительное время для кулуарной подготовки и публичного претворения в жизнь новых попыток конституционного реформирования в России.
Денежная реформа 1991 года
В январе 1991 года было принято Постановление об отмене хождения советских наличных рублей 1961 года и о блокировке счетов в Сбербанке. (Сообщение Госбанка СССР в прессе от 25 января 1991 г., пт., о выпуске новых банкнот).
Население страны было застигнуто врасплох этим неожиданным нововведением в январе 1991 года, так как было всего одно незаметное предупреждение Госбанка СССР в прессе за полгода до этого судьбоносного решения и в СМИ не было массовой информационной подготовки населения к денежной реформе.
«Объяснили» народу резкую реформу наличности намерением политических и финансовых властей Советского Союза лишить подпольных «цеховиков» и разросшийся криминальный элемент накопленной (награбленной криминальными и экономическими способами) наличности. Но в итоге денежная реформа 1991 года больно ударила по широким слоям населения.
Затем был организован Центробанк РФ, и в оборот была введена уже российская наличность, пережившая в 1991–1993 годах ещё несколько замен и перевыпусков и прославившаяся в эти годы резкой девальвацией, что нанесло ещё не один удар по кошелькам российских граждан.
6
Егор Гайдар – с 06.11.1991 г. по 20.01.1994 г. занимал высокие посты вначале в правительстве РСФСР, а затем Правительстве РФ (отвечал за вопросы экономической политики и финансы), с 12 декабря 1993 г. дважды депутат Госдумы. Проводил политику либерализации розничных цен.
7
Анатолий Чубайс – занимал различные ключевые посты в рос. государстве и госкомпаниях и являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. Позднее занимал пост главы Роснано, после чего, в результате ряда крупных подложных проектов, эта организация столкнулась с крупными финансовыми пробелами. В 2022 году с паспортом еврейского государства эмигрировал в Турцию, а затем в Израиль вместе с супругой Авдотьей Смирновой.