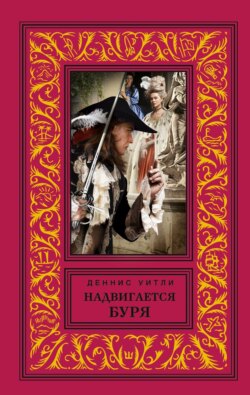Читать книгу Надвигается буря - Деннис Уитли - Страница 6
Глава 5
Недостойный священнослужитель
ОглавлениеОсторожная попытка Роджера завязать роман с сеньоритой д’Аранда была продиктована минутным порывом, просто она показалась ему неотразимой при лунном свете. Не успела карета миновать аллею, как сеньорита покинула его мысли, он целиком сосредоточился на королеве.
Роджер начинал понимать, что в последние двадцать минут вел себя совершенно несвойственным ему образом. Отчасти это объяснялось ошеломляющим переходом от полного отчаяния к внезапному избавлению от столь реального длительного заточения. Но Роджер чувствовал, что было и нечто большее, что заставило его в таких необычайно сильных выражениях высказать свою преданность Мадам Марии Антуанетте и заявить о своей готовности немедленно выполнить ее поручение.
Едва он успел прийти к этому выводу, как экипаж остановился у ворот парка. Кучер приоткрыл окошечко в крыше кареты, и из темноты до Роджера донесся его голос:
– Куда прикажете доставить вас, сударь?
Это был приятный сюрприз: значит, кучер не получил определенных указаний; а Роджер ожидал, что его высадят в нескольких милях к югу от Фонтенбло и ему придется на следующий день самому добираться до Парижа.
– Вы можете отвезти меня в Париж? – спросил он.
– Разумеется, сударь, – ответил кучер.
Окошечко захлопнулось, и они снова двинулись в путь.
Мысли Роджера тотчас же вновь обратились к Мадам Марии Антуанетте. Признавшись самому себе, что ее необъяснимые чары были причиной тому, что он без оглядки поклялся в своей готовности служить ей, он с удовлетворением отметил, что все-таки не настолько потерял голову, чтобы позабыть об интересах мистера Питта.
Роджер не был для премьер-министра единственным источником информации о деятельности Генеральных штатов, о новых эдиктах двора, о замене министров или возобновлении сопротивления парламентов королевской власти. Все это и многое другое министр узнает из официальных донесений, которые герцог Дорсетский по крайней мере раз в неделю посылает герцогу Лидскому в министерство иностранных дел. Задача Роджера – собирать сведения особого рода, например о частной жизни и намерениях основных действующих лиц в предстоящей борьбе. Из них, очевидно, самыми значительными были король и королева; и если, предпринимая по поручению Мадам секретное путешествие, он мог рассчитывать по возвращении на ее полное доверие, то отъезд на несколько недель из эпицентра событий мог впоследствии с лихвой вознаградить его за упущенную мелкую рыбешку, которая попалась бы в его сети, останься он в Париже.
И все же он не был уверен, что смог бы отказать ей в просьбе, если бы от него потребовалось при этом поступить вопреки интересам своей миссии. Роджер надеялся, что у него хватило бы сил, но совсем не был в этом уверен. Он понял, что она просто околдовала его, пока он находился в ее присутствии. Красота королевы была бесспорна, и с тех пор, как Роджер впервые увидел ее издали несколько лет назад, он всегда думал о ней как об одной из самых красивейших женщин. Но дело было не только в этом. Он вспомнил, как однажды Хорейс Уолпол, приглашенный на обед в Эймсбери-Хаус, расточал ей хвалы, говоря, что она обладает властью внушать страстное и почти непреодолимое обожание. Роджер теперь понимал, что имел в виду столь выдающийся острослов и писатель; теперь он и сам подпал под власть ее чар и испытал на себе эту удивительную способность почти безо всяких усилий тронуть и взволновать душу мужчины.
При ее редкостном очаровании, порядочности и доброте было трудно понять, за что народ так возненавидел ее. Когда четырнадцатилетней девочкой она приехала во Францию в 1770 году, чтобы выйти замуж за дофина, который был всего лишь на пятнадцать месяцев старше ее самой, население просто обезумело, восхищаясь ее красотой. Большие и маленькие города состязались между собой, посылая ей богатые подарки, и при каждом появлении на публике ее встречали бурные овации. Но постепенно ее популярность сошла на нет, и теперь ее ненавидели больше, чем любую другую женщину в Европе.
Ее юношеские безумства и расточительство не стоили стране и сотой доли тех сумм, которые Людовик XV израсходовал на своих любовниц; и в политике она не играла никакой роли до самого недавнего времени, когда медлительность и нерешительность ее мужа угрожали погубить государство. И тем не менее все население, за исключением небольшого кружка ее друзей, возлагало на нее вину за прискорбное состояние дел во Франции.
Роджер мог объяснить это только тем, что ее поступки и поведение намеренно извращали те тайные враги, о которых она ему говорила; а он знал, что эти враги не были плодом ее воображения. За время, проведенное в Париже, он выяснил, что во многих случаях злобная клевета на королеву исходила от герцога Орлеанского, и был уверен, что этот кузен короля не остановится ни перед чем, лишь бы погубить ее.
Роджеру пришло в голову, что герцог, вероятно, знал о конфиденциальном письме королевы, которое он теперь вез ее брату. Она сказала, что де Рубека рекомендовал ей маркиз де Сент-Урюж, а он едва ли взялся бы искать для нее посыльного, не выяснив предварительно, куда тот должен будет ехать. Поэтому де Сент-Урюж, скорее всего, знал, что местом назначения де Рубека была Флоренция, а этого было бы для него вполне достаточно, чтобы угадать в общих чертах содержание письма. Может быть, он и не знал, что за человек был де Рубек, но Роджер сильно сомневался в этом; а если маркиз знал, это доказывало, что он – предатель. Знание того, о чем королева пишет своему брату, не могло понадобиться простому дворянину, но в руках его высочества герцога Орлеанского эта карта могла оказаться козырной, чтобы погубить ее.
Таким образом, если де Сент-Урюж хотел завладеть письмом, то только потому, что собирался передать его кому-то другому, а при данных обстоятельствах все указывало на его высочество.
Если предположить существование заговора с целью завладеть письмом, рассуждал Роджер, то, так как этот заговор потерпел неудачу, де Рубек к этому времени уже наверняка доложил о своем конфузе де Сент-Урюжу, а маркиз сообщил герцогу; но нет никаких причин ожидать, что они смирятся с поражением, так же как и королева не отказалась от намерения отправить свое послание. Она говорила, что окружена шпионами, так что, даже если она больше не доверяет Сент-Урюжу, в ее окружении могут найтись другие тайные слуги герцога Орлеанского, которые приложат все силы, чтобы узнать, кого она на этот раз выберет своим посланцем в Тоскану. Видимо, она опасалась чего-то в этом роде, поэтому и прибегла к стольким предосторожностям, скрывая свой новый выбор посыльного и его отъезд.
По мнению Роджера, она сделала это с большим искусством; едва ли кто-нибудь из придворных, видевших, как его уводят под конвоем, станет подозревать, что Мадам могла доверить ему что-либо. Но все же, чтобы передать ему письмо, ей пришлось поздно ночью выскользнуть из дворца, и, если среди ее придворных дам была шпионка герцога Орлеанского, та вполне могла проследить за королевой. В таком случае Роджера могли увидеть и узнать, когда он выходил из кареты поблизости от павильона, и тогда ее стратагема теряла всякий смысл, поскольку герцог скоро узнал бы всю правду.
Даже если это было так и враги королевы знали, куда он направлялся, маловероятно, чтобы они успели устроить ему засаду прежде, чем он достигнет Парижа, но Роджер чувствовал, что после этого он должен будет постоянно опасаться нападения, а значит, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы его не застигли врасплох.
Если бы он был сам себе господином, он вовсе не стал бы возвращаться в Париж, но некоторые дела в столице, связанные с его работой для мистера Питта, настоятельно требовали этого, прежде чем он сможет с чистой совестью отправиться в Италию. Но он решил, оказавшись в Париже, по возможности затаиться, на случай, если люди герцога нападут на его след. Те же, кто полагал, что он находится в Бастилии, не должны разувериться в этом.
Помня о принятом решении, Роджер, когда карета около четырех часов утра прибыла в деревушку Вилльжуиф близ Парижа, приказал кучеру не въезжать в город, а высадить его у какого-нибудь тихого, респектабельного постоялого двора в одном из юго-восточных предместий.
Хотя еще не рассвело и только чуть посеревшее небо на востоке предвещало близкий восход солнца, заставу уже открыли, чтобы пропустить вереницу повозок и фургонов, везущих продукты на рынок. Кучер, видимо, хорошо знал этот район, потому что, миновав заставу, он без колебаний проехал несколько улиц в глубь предместья Сен-Марсель и там высадил Роджера перед гостиницей напротив королевской фабрики гобеленов. Поблагодарив его, Роджер вызвал хозяина гостиницы, потребовал комнату и немедленно лег спать.
Когда он проснулся, был почти полдень. Первым делом он вынул из-под подушки пакет, доверенный ему королевой, и принялся рассматривать его. Еще прошлой ночью его начали беспокоить некоторые деликатные вопросы этики, связанные с этим пакетом, но он отложил их решение, считая, что утро вечера мудренее. Но вот наступило утро, и он уже не мог оттягивать разрешение весьма неприятной дилеммы.
Как агент британского правительства, которому среди прочего было специально поручено попытаться выяснить мнение королевы о возможном ходе дальнейших событий и о лицах, которые с наибольшей вероятностью будут играть важную роль в этих событиях, он, очевидно, был обязан вскрыть пакет и ознакомиться с его содержимым. Собственно говоря, он молился о чуде, которое помогло бы ему в достижении этой цели, и такое чудо было ему даровано. Бесценный пакет прямо-таки упал к его ногам: едва ли Провидение могло бы сделать для него больше.
С другой стороны, ему страшно не хотелось вскрывать пакет, ведь королева сама вручила его Роджеру, полагая, что он достоин ее доверия.
Более четверти часа он вертел в руках пакет и так и сяк, раздираемый противоречиями, затем, наконец, в голове у него немного прояснилось. Его первейшая обязанность – это долг перед своей страной, и, если бы прекрасная иностранная королева попросила его сделать что-то во вред Британии, он был уверен, что отказал бы ей. Более того, соглашаясь служить ее посыльным, он в какой-то мере думал о том, что это поможет ему завоевать ее доверие. Но для чего он стремился завоевать ее доверие? Единственно для того, чтобы передать ее мысли мистеру Питту. А здесь, в письме, были не просто случайно высказанные мысли, которые он мог бы позже услышать от нее, а ее тщательно обдуманное мнение. Что толку щадить комара, чтобы проглотить верблюда, – доставить письмо не вскрывая, затем вернуться в Версаль с обдуманным намерением шпионить за королевой.
Оставалось еще данное им слово защищать письмо ценой своей жизни от рук врагов. Но мистер Питт питает к ней самое дружеское расположение и, безусловно, не откроет содержимого ее письма никому из ее недоброжелателей. На всякий случай Роджер мог еще и написать мистеру Питту, рассказать, при каких обстоятельствах письмо попало к нему в руки, и просить никому не показывать копию послания. Премьер-министр слишком порядочный человек, чтобы не оценить деликатность этого дела и скрупулезно не выполнить подобную просьбу.
Выбравшись из постели, Роджер вынул из кармана штанов свой дорожный нож, зажег свечу у кровати при помощи огнива и нагретым в пламени острием ножа подцепил одну из тяжелых печатей, которыми было запечатано письмо. Через двадцать минут осторожной работы ему удалось снять три печати, не повредив их, так что теперь он мог отогнуть верх и достать из конверта содержавшиеся в нем двадцать или более исписанных листов. Одного взгляда на документ было достаточно, чтобы понять, что он зашифрован.
Роджер ничуть не удивился, так как подсознательно ожидал этого. Он знал, что члены королевских семей обычно вели всю частную переписку при помощи шифра. Но к шифрам такого рода, к счастью, сравнительно нетрудно найти ключ, и, хотя обстоятельства лишили его возможности узнать мнение королевы, он знал, что мистер Питт скоро справится с этим затруднением.
Положив бумаги в конверт, он засунул его в глубокий карман в подкладке своего камзола, затем оделся и спустился в кофейню. Там он заказал весьма плотный завтрак, который съел, не разобрав вкуса, но с большим удовольствием. Позавтракав, Роджер сообщил хозяину, что комната понадобится ему на одну или, может быть, две ночи, затем вышел на улицу и, зная, что найти в этом далеко не шикарном квартале наемный экипаж будет сложно, сел в первый же омнибус, направлявшийся к центру Парижа.
Он сошел у Нового моста, пересек оконечность острова Сите и, очутившись на северном берегу Сены, повернул налево, все время поглядывая по сторонам, чтобы не наткнуться случайно на какого-нибудь знакомого. Пройдя вдоль южного фасада Лувра, он оказался в саду Тюильри. Здесь он сорвал одиннадцать листиков и отломил прутик с нижней ветки одного из платанов, все вложил в конверт, принесенный специально для этой цели.
Продолжая прогулку, он пересек сад, вышел на улицу Сент-Оноре и двинулся по ней на запад. Не успев отойти далеко, он увидел небольшую процессию – человек тридцать довольно грубого вида двигались ему навстречу. Во главе шел человечек с лисьей физиономией, одетый несколько лучше остальных, который нес плакат с надписью: «Пусть он подавится своими пятнадцатью су. Долой угнетателей бедняков!» Рядом с ним женщина со спутанными черными волосами била в маленький барабан, а мужчины призывали прохожих присоединяться к ним.
По всей стране выборы уже завершились, но Париж отстал, и страсти здесь все еще кипели, так что Роджер предположил, что компания хулиганов направлялась на какое-то политическое сборище. Вскоре после этой встречи он зашел в лавку цирюльника и спросил месье Обера.
Владелец вышел из задней комнаты и любезно приветствовал Роджера, как старого знакомого, после чего тот вынул из кармана конверт с одиннадцатью листьями и прутиком:
– Прошу вас, господин Обер, передайте это вы-знаетекому, когда он зайдет к вам завтра утром.
Брадобрей ответил ему понимающей улыбкой, спрятал письмо в карман и с поклонами проводил его до дверей лавки.
Не желая больше задерживаться в этом квартале, где ему могли повстречаться знакомые, Роджер окликнул проезжающую мимо наемную карету и велел кучеру отвезти его в Пасси, но по дороге остановился у первой же лавки, торгующей письменными принадлежностями.
Он купил несколько листов тонкого пергамента, немного копировальной бумаги и несколько гусиных перьев, очень тонко отточенных, после чего продолжил свой путь.
Карета везла его по северному берегу Сены, поворачивая вместе с рекой на юго-запад, где узкие улочки сменились отстоящими друг от друга домами, каждый из которых был окружен садом, затем они выехали на открытую местность. Миновав поля, карета въехала в очаровательную деревушку Пасси, где Роджер направил кучера к прелестному маленькому домику. Выйдя из кареты, он сказал вознице, что проведет здесь несколько минут либо несколько часов и в последнем случае хорошо заплатит за ожидание; затем прошел по ухоженной садовой дорожке к дому и позвонил в дверь.
Дверь открыл слуга в темной ливрее, и Роджер осведомился, вернулся ли уже хозяин из деревни. К его великой радости, ответ оказался утвердительным, владелец был дома, так что Роджер назвал слуге свое имя, и его проводили в прекрасно обставленную гостиную на первом этаже, которую он так хорошо знал со времен своего пребывания в Париже два года тому назад.
Оставшись на несколько минут один, он поздравил себя с тем, что сумел-таки встретиться со своим старым другом. Две недели назад он был горько разочарован, не застав того дома. Роджер был уверен, что хозяин дома мог бы, если бы захотел, предсказать возможный ход событий после созыва Генеральных штатов точнее любого другого человека во всей Франции. Если бы не эта причина, он ни за что не отправился бы сегодня в Пасси; но Роджер чувствовал, что должен предпринять последнюю попытку добиться этой встречи, даже если в результате станет известно, что он снова на свободе; ведь перед отъездом в Италию он должен был подготовить свой последний отчет для мистера Питта.
Из открывшейся двери появился стройный, моложавый человек среднего роста в богатом костюме фиолетового шелка, опирающийся на малаккскую трость. Надменное выражение худого аристократического лица смягчали рот, выдававший наклонность к немного желчному юмору, живые голубые глаза и чуть вздернутый нос. До недавних пор он был известен как господин аббат де Перигор, теперь же он был епископ Отенский, а со временем ему предстояло носить титулы герцог Беневенский, князь Талейран, архиканцлер Европы.
Загорелое лицо Роджера озарила улыбка, и он проговорил с поклоном:
– Надеюсь, вы не забыли меня, господин епископ?
– Друг мой, как бы я мог? – отвечал епископ со своей обычной любезностью. Затем, прихрамывая, он вошел в комнату и, знаком предложив Роджеру кресло, сел сам и продолжил удивительно звучным и глубоким голосом: – Но расскажите мне, откуда вы возникли? Вы только что из Англии или уже некоторое время пробыли во Франции?
– Меня только сегодня утром выпустили из Бастилии, – отвечал Роджер без запинки.
– Хо-хо! – воскликнул прелат. – Чем же вы вызвали такое неудовольствие его величества, что он одарил вас столь странным гостеприимством?
– Все эта старая история с де Келюсом. Я думал, что обвинение с меня снято и все это дело давно забыто, но, как оказалось, я ошибся. Отправившись подышать воздухом в Фонтенбло, я был узнан несколькими придворными и, не успев оглянуться, очутился в тюрьме.
– И долго вы там пробыли?
– О нет, хотя был уверен, что останусь там надолго, и пережил все полагающиеся по такому случаю душевные терзания. Очевидно, было решено, что по прошествии столь долгого времени мне довольно будет одной ночи в заточении, чтобы явственно представить себе, как неприятно было бы задержаться там намного дольше, если бы мне снова случилось согрешить. Когда я завтракал, ко мне пришел комендант и сообщил, что вместе с приказом о моем заключении он получил указания освободить меня на следующее утро.
– Вам повезло, что вы так легко отделались. Было весьма необдуманно возвращаться во Францию, не убедившись прежде в отмене приказа о вашем аресте. У людей господина де Кросна долгая память на такие дела, как ваше.
Роджер состроил гримасу.
– Не так уж легко провести ночь в тюремной камере, если думаешь, что можешь остаться там навсегда. Но отправил меня в каземат не начальник полиции. Все, кого я встречал в Фонтенбло, за одним исключением, сочувствовали мне, так что я уверен, что был бы избавлен от этого весьма неприятного переживания, если бы не злоба королевы.
– А! – пробормотал де Перигор, внезапно нахмурившись. – Так вы пострадали от этой женщины, привыкшей совать свой нос в чужие дела?
Роджер хорошо знал про сильнейшую и не совсем беспричинную вражду хозяина дома к королеве и намеренно сыграл на этом. Всего за три дня до того он мог убедиться во взаимности этой неприязни, когда королева заклеймила его друга, назвав его «этот недостойный священнослужитель». С циничной усмешкой он заметил:
– Я отлично помню ваш рассказ о том, как ее величество помешала вам получить головной убор кардинала, обещанный вам его святейшеством по рекомендации короля Густава Шведского; но я думал, что ваша вражда к ней могла несколько утихнуть с тех пор, как вам дали епископство.
– Дали! – презрительно отозвался де Перигор. – Епископство, с позволения сказать! Это жалкое епископство! Не знаю, было ли более неприятно их величествам назначить меня сюда или мне самому получить такую подачку! Они сделали это только потому, что такова была последняя просьба моего отца на смертном одре полтора года назад, и они едва ли могли не исполнить ее. Что до меня, мне тридцать четыре года и вот уже десять лет я достоин митры больше, чем кто-либо другой. Запоздало согласившись на мое назначение, король мог бы, по крайней мере, дать мне архиепископство Буржское, которое в то время было вакантно. Но нет, он отделался Отеном; эта епархия приносит мне нищенскую сумму – двадцать тысяч ливров в год.
В этот момент слуга внес на подносе бутылку в ведерке со льдом и два высоких бокала.
– Не угодно ли бокал вина? – осведомился епископ. – В этот час наше чувство вкуса еще достаточно свежо, чтобы оценить качество винограда, и я уверен, что вы найдете это вино вполне сносным.
Собственно говоря, это было «Гран Монтраше» семьдесят второго года, хранившее в своих золотистых глубинах солнечный свет давно прошедшего лета. Пригубив вино, Роджер поблагодарил хозяина за доставленную радость. Затем, когда слуга удалился, он возобновил прерванный разговор, заметив с улыбкой:
– Поистине печально, что узость взглядов их величеств лишила вашу милость возможности наслаждаться лучшими дарами обоих миров.
Этим он по возможности тактично намекал, что Пери-гор должен бы винить только самого себя за то, что его обошли, так как даже в ту распущенную эпоху его безнравственный образ жизни шокировал весь Париж, тогда как король и королева славились своим благочестием. Но епископ принял его слова всерьез и возразил:
– Друг мой, смешивать эти два мира – значит ничего не знать о действительной жизни. Как сотни других рукоположенных священников, и в том числе многих высоких сановников, как и я сам, я был призван Церковью без своего согласия, не чувствуя к этому никакого призвания. Женщины, как учит нас Писание, были созданы на радость мужчинам, и, следовательно, отказывать себе в праве наслаждаться ими было бы противно воле Божией, не говоря уже о человеческой природе. Если уж нам запрещено жениться, приходится прибегать к другим способам, и что в этом плохого? С незапамятных времен французские короли знали об этом и не возражали. По-моему, несправедливо ставить мне в вину, что я оказался в этих удовольствиях более счастлив, чем многие иные.
С другой стороны, будучи генеральным агентом по делам Церкви провинции Турень, я ревностно исполнял свои обязанности и проявил себя как способный администратор. Так что, когда мою кандидатуру на рукоположение представили королю, меня поддерживали ведущие церковные сановники Франции, которые ходатайствовали за меня перед королем и убеждали его проявить снисхождение к моим любовным историям, как к обычным юношеским увлечениям.
– Следует ли это понимать так, что теперь вы стали образцом праведности? – ухмыльнулся Роджер.
Де Перигор ответил такой же ухмылкой:
– Боюсь, совсем напротив. И мне не больше, чем прежде, нравится изображать священника. Но вы, вероятно, обратили внимание на мой костюм. Я обнаружил, что фиолетовое облачение епископа замечательно идет мне, так что в виде уступки нашей Церкви я велел сшить себе несколько светских костюмов того же цвета.
– А как относится к этому ваша паства? – спросил Роджер. – Когда, приехав в Париж недели три назад, я искал встречи с вами, мне сообщили, что вы уехали в свою епархию.
– Ах, – вздохнул епископ. – Тут дело было серьезное, и я не пошел на риск, дабы не обидеть прихожан светским нарядом. Хотите верьте, хотите нет, но я целый месяц изображал почтенного священника. К несчастью, я так отвык от этого, что однажды во время мессы позабыл порядок ритуала. – Рассмеявшись, он продолжал: – Я никогда прежде не посещал свою епархию, считая, что вполне достаточно время от времени отправлять им пасторское послание, благочестивое до тошноты; молю Бога, чтобы больше никогда мне не пришлось побывать там. Но эта поездка была необходима, так как я хотел, чтобы меня избрали представителем духовенства епархии на предстоящей встрече Генеральных штатов.
– Судя по сообщениям газет, вам это удалось, и я приношу свои поздравления вашей милости.
– Тысяча благодарностей. – Де Перигор грациозно наклонил голову. – Впрочем, исход выборов был предрешен. Я угостил этих бедолаг-священников таким обедом, какого они в жизни не видывали, и внушил каждой влиятельной женщине лестную уверенность, будто мечтаю переспать с нею. Но теперь, когда меня избрали, я и знать не хочу, что они там обо мне думают. Мне это настолько безразлично, что, изнывая вдали от цивилизованного Парижа, я отряхнул прах Отена с ног своих и помчался прочь в своей карете в девять часов утра Пасхального воскресенья.
Раз уж разговор зашел о Генеральных штатах, Роджер не дал ему снова уйти в сторону:
– Встреча Генеральных штатов столько раз откладывалась, что начинаешь сомневаться, соберутся ли они когда-нибудь.
– Этого можно не опасаться, – быстро уверил его де Перигор. – Отсрочек невозможно было избежать. Вы, как англичанин, плохо представляете себе, что это собрание значит для Франции и какое бесчисленное количество вопросов пришлось решить, прежде чем оно стало возможным. Мало того что штаты не собирались на протяжении семи поколений, когда они и собирались, то представляли далеко не всю нацию; но в нашем теперешнем критическом положении созывать непредставительное собрание было бы совершенно бессмысленно. Вследствие этого почти все предшествующие прецеденты оказались более чем бесполезны. В сущности, это первые всеобщие выборы в истории Франции, и нам пришлось выработать принципы, на которых они должны были строиться, практически с нуля. В прошлом году я несколько месяцев помогал в этом господину Неккеру и знаю, что этот вопрос буквально начинен трудностями.
– Какого вы мнения о господине Неккере? – перебил его Роджер.
– Он весьма способный финансист, но крайне неспособный государственный деятель, – ответил де Перигор. – Только финансовый гений мог удерживать казну от банкротства все долгие месяцы, ушедшие на подготовку к выборам; но во всех остальных отношениях он человек очень средний. Он мыслит недостаточно масштабно, чтобы охватить широту вопросов, поставленных на карту, а его либеральные наклонности продиктованы скорее сентиментальностью, чем истинным пониманием нужд нации. Год назад я возлагал на него большие надежды, но теперь я лучше узнал его и очень скоро заметил, что его действиями на девять десятых управляет тщеславие. Если бы в минуты кризиса он не прислушивался к разумным советам своей дочери, я убежден, что публика давно уже распознала бы в нем человека из соломы.
– Под его дочерью, я полагаю, вы разумеете мадам де Сталь?
– Да. Она у него одна и, по-моему, далеко превосходит его интеллектом. Она – блестящая женщина и могла бы найти лучшую партию, чем здешний министр Швеции. Тысячу раз жаль, что между нею и вашим мистером Питтом так ничего и не вышло.
– Мистером Питтом! – воскликнул Роджер. – Никогда не представлял его женатым.
– Несомненно, в последние годы он был слишком занят, чтобы заниматься матримониальными проектами. Но во время его единственного визита в нашу страну в 1783-м, уверяю вас, шла речь о его браке с мадемуазель Неккер, он сам говорил мне об этом. Хотя господин Неккер очень богат, в то время он был всего лишь помощником контролера финансов, и породниться с блестящим младшим сыном лорда Чатема было бы весьма полезно для его продвижения по службе, так что и он, и его жена стремились к этому браку. Мистер Питт тоже был отнюдь не против. Но, насколько я знаю, молодая леди придерживалась другого мнения, и по этой причине дело закончилось ничем.
– Вы меня изумляете. Но прошу вас, продолжайте рассказ о характере господина Неккера. Из ваших слов можно заключить, что он едва ли сможет руководить Генеральными штатами.
Де Перигор покачал головой:
– Вне всякого сомнения. И его задача не становится легче оттого, что ему не доверяют ни король, ни королева. И в этом они в кои-то веки правы. Популярность вскружила ему голову, ради благосклонности толпы он способен поощрять любые ее безумства.
– Значит, если король не переменит министра, похоже, некому будет держать депутатов в узде. Как вы полагаете, кто из них может повести за собой остальных?
– Это невозможно предсказать. Как видно, вы недооцениваете новизну ситуации. Как я говорил, во Франции еще не бывало ничего даже отдаленно похожего на эти выборы. Только беднейшие граждане, которые не платят налогов, не получили права голоса, так что общее число избирателей приближается к шести миллионам. Но они не избирают непосредственно депутатов, которые будут представлять их в Генеральных штатах. Механизм выборов невероятно сложен, его удалось окончательно выработать лишь после долгих месяцев ожесточенных споров. Многие города настояли на том, чтобы организовать выборы по-своему, и в разных провинциях применяются разные системы. Но в целом группы людей, сильно различающиеся по численности, избирают своих представителей в местные собрания, а эти собрания, в свою очередь, избирают депутатов.
Такая в значительной мере произвольная система приведет к тому, что в следующем месяце в Версаль съедется самая разношерстная публика. Только одно можно сказать с уверенностью: даже имена большинства из них не будут известны. Но любой из них может оказаться вершителем судеб, и имя его вскоре прогремит по всей Европе.
Роджер кивнул:
– Вы говорите, конечно, о третьем сословии, ну а первые два? Среди них наверняка найдется много талантливых людей и с большим опытом; разве не велика вероятность, что некоторые из них станут новыми лидерами нации?
– Их выборы проходят почти так же беспорядочно. По оценкам, во Франции около ста пятидесяти тысяч представителей духовенства и примерно столько же дворянства, ведь к нему причисляют и мелкопоместных дворян, которых вы в Англии называете джентри. Но эти огромные группы избирателей будут представлять всего лишь по триста с небольшим депутатов. На выборах духовенства обошли многих высоких сановников, но избрали значительное число сельских кюре, которые никогда прежде не выезжали из своих деревушек. То же и с дворянством. Более половины избранных к настоящему времени – небогатые сельские жители, имущество которых состоит из нескольких акров земли да родового герба. А дворянство мантии, или, как их можно было бы назвать, судебные власти, – класс, несомненно, более других достойный высказать свое мнение по вопросам, которые мы призваны обсудить, вообще почти не представлен.
Епископ предложил гостю свою табакерку, сам взял понюшку, подержал мгновение у своего немного вздернутого носа, придававшего его лицу такую пикантность, изящно смахнул крошки табака кружевным носовым платком и продолжил:
– Более того, я сильно сомневаюсь, что одно из двух первых сословий будет в состоянии как-то влиять на третье. В случае давних прецедентов все три сословия имели равное число представителей, и на месте короля я и сейчас настоял бы на этом, если пришлось бы, даже силой оружия. Но этот слабый глупец, как обычно, испугался шума, поднятого общественностью, и уступил требованию смутьянов, разрешив третьему сословию прислать в Версаль столько же депутатов, сколько будет у двух других сословий, вместе взятых. Поскольку совершенно ясно, что многие беднейшие дворяне и священники примкнут к третьему сословию, к остальным же двум – очень немногие, это означает, что естественные защитники прерогативы короля будут обречены с самого начала.
– Но мне казалось, что три сословия должны принимать решения по отдельности, – возразил Роджер. – В этом случае у вас все-таки будут два голоса против одного.
– Пока правила таковы; но сколько времени они просуществуют на практике? – туманно ответил де Перигор.
После минутного молчания Роджер заметил:
– Судя по вашим словам, когда Генеральные штаты наконец соберутся, на них будут представлены самые разнообразные люди; наверняка там найдутся и носители ценных идей.
– Позже – может быть, но не с самого начала. Теоретически все депутаты должны вносить только те предложения, которые изложены в их тетрадях. Король созвал Генеральные штаты не для того, чтобы обсудить определенные предложения его министров. У него хватило идиотизма предложить всем жителям страны давать ему советы по поводу того, как выбраться из нынешнего запутанного положения. И вот сотни тысяч всезнаек взяли на себя роль скороспелых министров. На минувшее полугодие каждая группа избирателей превратилась в распаленный дискуссионный клуб, и самые решительные участники составили свои программы, которые избранные ими представители повезли с собой на местные собрания. На этих собраниях каждая тетрадь, естественно, стала предметом яростных споров, и в конце концов наиболее яркие положения были собраны в особые тетради для каждого депутата. Депутаты везут эти тетради в Версаль в качестве наказов своих избирателей и по закону не имеют права отклоняться от изложенного в них.
Роджер кивнул:
– Я знал об этом; но ведь эти тетради, вобравшие в себя мнения всех мыслящих людей Франции, должны содержать множество стоящих предложений?
– Судя по тем, которые я видел до сих пор, гораздо меньше, чем можно было ожидать. Большинство предложений от крестьянства совершенно никчемны. Эти люди ничего не видят дальше собственного носа. В основном там детские требования об отмене всех налогов и лишении двух первых сословий феодальных прав да просьбы его величеству всемилостивейше распорядиться об очистке сточной канавы в их деревне. Что касается прочих требований, почти все они следуют образцам, распространяемым в форме памфлетов и разработанным людьми вроде господина де Сиейеса.
– Что вы думаете о нем? – поинтересовался Роджер.
– Лично он мне несимпатичен. Это иссохший человечек, которого природа вместо сердца наделила холодным, расчетливым умом. Кроме себялюбия, у него нет никаких страстей, разве что исступленная ненависть к любым формам аристократии. Священник из него не лучше, чем из меня, и он провалился на выборах от своего сословия. Но, как я слышал, ввиду великих заслуг в борьбе с абсолютизмом ему было позволено выдвинуть свою кандидатуру в депутаты от города Парижа, так что он несомненно обеспечит себе местечко в третьем сословии.
Епископ умолк, чтобы наполнить бокалы. Затем вновь заговорил:
– Вы англичанин и, возможно, не видели его памфлет, который начинается словами: «Что есть третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политическом плане? Ничем. Чего оно хочет? Стать чем-то». Этот памфлет разошелся тысячами экземпляров и сразу выдвинул его в передние ряды борцов за реформы. Я не стал бы доверять ему ни на йоту и думаю, что у него не хватит мужества, необходимого, чтобы стать крупным деятелем; но, если мы добьемся конституции, он может далеко пойти. Его образец тетради, безусловно, оказал огромное влияние на написание большой части других тетрадей, которые привезут в Версаль.
– А что же ваша собственная? – спросил Роджер с улыбкой.
Де Перигор рассмеялся:
– На этот счет я спокоен. Я сам составил ее.
– Было бы весьма интересно узнать о ее содержании.
– Друг мой, мне бы и в голову не пришло утомлять вас этим. Она полна такого рода трескучих фраз, какие охотно проглатывают глупцы, и я давно уже забыл о ней.
– Расскажите, кто еще, кроме господина аббата Сиейеса, может, по-вашему, проявить себя?
– Малуэ выделяется своей порядочностью, если только прислушается к людям умеренных взглядов. Также Мунье – один из самых известных политиков Франции, его считают оракулом по всем вопросам парламентской процедуры. Затем Дюпон де Немур, экономист, Байи, всеми уважаемый астроном, Луи де Нарбонн и Клермон-Тоннер; всех их, если припомните, вы встречали здесь, когда посещали мои утренние приемы, и все они – люди недюжинных способностей. Но, как я уже говорил вам, потенциальных возможностей подавляющего большинства только что избранных депутатов пока не знает никто в Париже.
– Вы не упомянули графа Мирабо.
– Я счел это излишним. Оноре Габриель Рикетти на голову выше всех, кого я назвал, не только физически, но и по своему уму. Так как его отец, сварливый старый маркиз, отказался дать ему даже самый маленький феод, необходимый для избрания от второго сословия, он выдвинул свою кандидатуру от третьего сословия, сразу и в Марселе и в Эксе. Оба города избрали его, и он предпочел представлять второй из них. Какова бы ни была судьба остальных депутатов в собрании, напоминающем вавилонское столпотворение, где все пытаются высказаться одновременно, можно быть уверенными, что Мирабо не даст себя заглушить.
– Вы считаете, у него есть задатки большого лидера?
Единственный раз Перигор заколебался, нахмурив гладкий лоб:
– Трудно сказать. Всему свету известно, что он прирожденный проходимец. Он провел несколько лет своей жизни в самых разнообразных тюрьмах, хотя и не совсем по своей вине, потому что его отец преследовал его с большой жестокостью и много раз добивался его ареста с помощью lettre de cachet. Но и выйдя из тюрьмы, он придерживался весьма темного образа жизни, пускаясь на самые низкие уловки, чтобы раздобыть деньги на удовлетворение своих страстей. Не думаю, чтобы он был более безнравствен, чем я, но, конечно, куда более неосторожен. Он покинул свою жену и похитил жену одного из дворян мантии. Затем покинул и ее и сбежал с молодой женщиной из монастыря, которая готовилась к постригу.
Я думаю, что он – истинный патриот. Он, безусловно, наделен могучим интеллектом и ярой целеустремленностью. Я уверен, что он не сказал бы, не написал и не сделал бы ничего, что считал бы вредным для своего дела. Но Рикетти – итальянского происхождения, и горячая южная кровь частенько ударяет в его большую голову; боюсь, его погубят слишком сильные страсти.
– Как ни велика его популярность в массах, – заметил Роджер, – трудно себе представить, чтобы король, если решит даровать народу конституцию, доверил человеку с такой предысторией формирование правительства.
Уголки епископского рта приподнялись в циничной улыбке.
– Кто может знать, друг мой, насколько король будет иметь право голоса по вопросу выбора его будущих министров?
– Так вы, по-видимому, убеждены, что Генеральные штаты не только вынудят его даровать конституцию, но в придачу еще и лишат его политические действия всякой значимости?
Де Перигор кивнул:
– Да, я так считаю. По моему мнению, монархия, хотя она и пришла в упадок, зиждется на слишком прочной основе, чтобы ее можно было свергнуть, и этого не желает никто, кроме кучки экстремистов. Но как только штаты наконец соберутся, можете быть уверены, они не ограничатся полумерами.
– Я согласен с тем, что вы говорите о монархии, но как насчет ее нынешнего представителя на троне? Существует ли возможность, что герцог Орлеанский попытается занять его место или, по крайней мере, захочет стать заместителем главнокомандующего на правах регента?
Выразительные глаза коварного священника неожиданно стали совершенно пустыми, и он ответил небрежным тоном:
– Его высочество герцог Орлеанский несомненно стремится играть более заметную роль в государственных делах, но я не могу поверить, чтобы он замышлял измену королю.
Роджер не сомневался, что его друг лжет, а значит, почти наверняка он в какой-то мере сам замешан в орлеани-стском заговоре, поэтому он не стал настаивать и вместо этого спросил:
– Вы, случаем, не знаете господина де Сент-Урюжа?
– Близко я с ним не знаком. Кажется, он принадлежит к окружению короля, а я уже давно не являюсь персоной грата при дворе. Но почему вы спрашиваете?
– Потому что перед отъездом из Англии мне дали рекомендательное письмо к нему, – солгал Роджер, – а я пока еще не мог узнать его теперешнего адреса.
– Попробуйте в Пале-Руайяле, – посоветовал де Пери-гор. – Сам я не часто там бываю, но на прошлой неделе случайно оказался и по дороге в кабинет его высочества встретился с де Сент-Урюжем, выходившим оттуда. Возможно, кто-то из секретарей сможет сообщить вам, где он живет.
Если покровителя мерзавца де Рубека видели выходящим от герцога Орлеанского, это еще не доказывало, что он и сам – орлеанист, но, безусловно, подтверждало теорию Роджера, что тот мог им быть. При явном нежелании Перигора обсуждать герцога Роджер чувствовал, что ему очень повезло с этой крупицей информации. Поблагодарив епископа за совет, он добавил:
– Как бы там ни было, придется справляться о месте его пребывания у третьих лиц, так что, боюсь, я не успею разыскать его и засвидетельствовать свое почтение; ведь в самом скором времени я уезжаю из Парижа.
– В самом деле! – Де Перигор поднял брови. – Очень жаль это слышать. Вы не были в Париже так долго; я с особенным удовольствием был бы рад снова наслаждаться вашим обществом.
Роджер поклоном выразил свою благодарность за изысканный комплимент, а епископ продолжал:
– Право, вы должны задержаться хоть немного, чтобы присутствовать при открытии Генеральных штатов. Это будет преинтересно, и я буду счастлив представить вас всем знакомым депутатам.
– Я благодарен вашей милости за вашу доброту и за весьма соблазнительное приглашение, – отвечал Роджер с вполне искренним сожалением. – Но, увы, я вынужден отклонить его. Неодобрение дуэлей со стороны ее величества выразилось в моем случае не только в том, что мне пришлось провести ночь в Бастилии. Сегодня утром, отпуская меня на свободу, комендант сообщил, что мне приказано покинуть Париж не позднее как через сорок восемь часов.
– Что за ребяческая тирания! – с досадой воскликнул епископ. – Куда же вы отправитесь?
– В Прованс. Я никогда не видел великих городов этой провинции и тех, что на Средиземном море; говорят, тамошнее побережье особенно прелестно в это время года.
Де Перигор взял еще понюшку.
– Конечно, мудро отойти в сторонку на несколько недель. Но пусть это не помешает вам вернуться сюда в июне, если таково будет ваше желание. Авторитет короля уже настолько ослабел, что с ним почти не считаются. А когда начнут заседать Генеральные штаты, со стороны двора будет куда как благоразумно не раздражать их зря, настаивая на выполнении таких вздорных приказов.
– Так вы уверены, что штаты все-таки будут работать и что король не распустит их после нескольких заседаний, как случилось с Собранием нотаблей?
– Он не посмеет, если хочет сохранить корону. – В звучном голосе епископа вдруг послышались надменные нотки. – Население пока еще чтит короля, а большинство даже любит его. Но в Генеральных штатах будут представлены ум, кровь и плоть Франции; и, если король попытается распустить их, он в одночасье станет врагом всего королевства. Своим решением о созыве Генеральных штатов он отдал себя в руки своих подданных; стоит им только собраться, их уже нельзя будет распустить, кроме как по их собственной воле. В этом я абсолютно уверен.