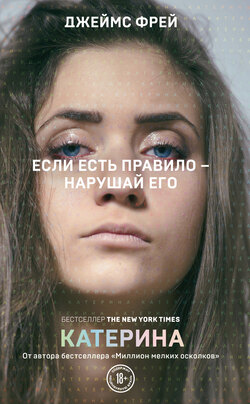Читать книгу Катерина - Джеймс Фрей, Nils Johnson-Shelton - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предыстория
ОглавлениеЯ родился в Кливленде. Отец был юристом, мать растила нас с братом. Мы не были ни богатыми, ни бедными. Жили в хорошем доме на хорошей улице хорошего города. В первом пригороде от границы Восточного Кливленда. Город был наполовину черным, наполовину белым, половину белых детей составляли евреи. Все мы дружили, играли вместе, ходили в школу вместе, дрались вместе и друг против друга. Только когда я стал старше, я узнал, что нам полагается друг друга ненавидеть. Что в Америке надо держаться заодно со своими. И когда я узнал об этом, то решил, что это глупо – как многое из того, что я узнал за свою жизнь. Кровь есть кровь, она всегда красная. Покажи, что у тебя в душе и в глазах. И мне насрать, какого цвета твоя кожа и какому богу ты молишься.
Родители были хорошими людьми. Оба трудились не покладая рук. Отец работал в компании, выпускающей детали рулевого управления и другие автозапчасти, мама готовила, убирала, играла в теннис и бридж. Они любили друг друга и нас. Старались привить мне нравственные принципы и ценности. Заставить меня ходить в церковь и стать достойным членом общества. Брат был хорошим парнем. Четырьмя годами старше меня. Успешно учился. Слушался родителей, никогда не нарывался на неприятности. Был отличным братом. Никогда не бил и не дразнил меня. Всегда брал с собой, когда что-нибудь затевал с друзьями. Помогал, когда мне требовалась помощь, и не лез, когда я в ней не нуждался. Я хорошим не был. В школу ходил, но не уделял урокам особого внимания. И плевал на отметки. Ввязывался в схватки на кулаках и языках. Огрызался и уворачивался. Начиная со сравнительно юных лет моим любимым занятием был вандализм. Разрушения доставляют радость, огромную радость. Будь то от баллона с краской, биты, снесшей почтовый ящик, перевернутого мусорного бака или десяти баков. Были и другие радости: телки, сигареты, краденое бухло, наркота, чтение и спорт. Я был хорошим спортсменом. Настолько хорошим, что умение загонять мяч пинком точно в цель привело меня в колледж, хоть мой средний школьный балл – всего 2.2. Годы моей учебы в колледже ничем не примечательны. Я воспринимал их как длинные каникулы. Хватало и того, что я посещал занятия. Я не желал становиться юристом, врачом, учителем или бизнесменом. Ничего не хотел выводить на рынок. Или производить. Или продавать. Или покупать. Не хотел носить костюм или готовить квартальные отчеты. Я играл в мяч, читал книги, обхаживал девчонок, бухал и нюхал кокаин. Летом я косил газоны, выпалывал сорняки и ездил на пляж. Через три года я сломал ногу, и моей спортивной карьере пришел конец. И я вздохнул с облегчением. Больше никаких тренировок и притворства, будто мне не наплевать. Я ходил на занятия и читал книги, хотя редко те, которые нам задавали. Свободное время я проводил в компании с Керуаком, Буковски и Хантером Томпсоном. С Кнутом Гамсуном, Джоном Дос Пассосом и Уильямом Сарояном. С Кеном Кизи, Алленом Гинзбергом и Томом Вулфом. С Тимом О’Брайеном, Джоном Кеннеди Тулом и Уильямом Берроузом. Бухал и нюхал – так часто, что стал приторговывать кокаином, чтобы было на что потакать своей привычке. Покупал пол-унции, то есть 14 граммов, за тысячу баксов. Толкал 10 граммов по стольнику каждый, а четыре оставлял себе. Иногда бодяжил наркоту, разбивал дозы, и тогда четырнадцать граммов превращались в восемнадцать, у меня оставалось четыре сотни лишних, я угощал выпивкой друзей, покупал книги, цветы девчонкам, которые мне нравились, возил в Taco Bell полную машину народу и заказывал все, что есть в меню. И продолжал читать. Джеймса Джойса, Оскара Уайльда и Генри Джеймса. Читал «Пробуждение» Кейт Шопен и пускал слезу. Читал «Дон Кихота» и катался со смеху. Читал Гюго и Дюма, Толстого, Достоевского и Гоголя. Начался выпускной курс. Я не думал о том, что буду делать, когда он закончится. Отец хотел, чтобы я поступил в школу права или нашел работу на Уолл-стрит. Советовал поискать место в сфере рекламы, ведь я творческая личность. Мой брат поступил в школу права, стал юристом, женился и уверенно шел по пути к тому, чтобы сделаться достойным и почтенным обывателем. Я радовался за него. И понимал, что того же самого ждут от меня. От этого так и подмывало врезаться в дерево. Или нанюхаться кокса до разрыва сердца. Или забрести в воду поглубже, идти и идти.
Я читал, бухал, нюхал кокаин и торговал им и ел тако и покупал цветы девчонкам и порой влюблялся в кого-нибудь из них на час-другой или на ночь-две, а иногда кто-нибудь из них влюблялся в меня на час-другой или на пару ночей. Я встретил ее и влюбился по-настоящему, или мне казалось, что по-настоящему, и жизнь была простой, и прекрасной, и всепоглощающей. Я бросил сбывать наркоту, стал меньше пить, а книги, которые я читал, обретали новый смысл, мне казалось, будто я живу в какой-то из них, в великом романе, в истории глубокой истинной любви. Мне нравилось в ней все. Ее голос, ее глаза, как она выбирала слова, когда говорила, ее почерк, как она смеялась и улыбалась, как курила, книги, которые она читала (столько же женщин, сколько я читал мужчин), разговоры, которые мы вели о них, одежду, которую она носила, и то, какой она была без одежды. В отличие от меня, она была воспитанной и приличной. Ее отец возглавлял какую-то оборонную компанию, она выросла в Сан-Франциско и училась в частных школах. Собиралась вернуться туда, работать в технической сфере, основать свою компанию. Я представлял, как поеду с ней, впервые представлял, как буду обыкновенным, найду работу, буду носить костюм, каждый день ездить в офис, платить налоги. Буду мужем. Мужчиной, или тем, что считается мужчиной в нашем обществе. Любовь – безумная штука. Может подарить тебе жизнь или отнять ее. Сделать из тебя то, чем ты раньше не был, – к худу или к добру. Заставить мечтать и мыслить и говорить и действовать так, как тебе не свойственно, – по крайней мере, меня. У нас было два отличных месяца. Пробуждения и засыпания вместе, тихие ужины и длинные разговоры о будущем. Глаза, руки, губы и языки. Тела. Сердца. Мне казалось, все они отличные, но я, возможно, просто заблуждался. Мы поцеловались на прощание и разъехались по домам на рождественские каникулы. Каждый день говорили по телефону. Отправили друг другу подарки: сережки ей и первое издание «Песни палача» – мне. Строили планы на весенние каникулы – поездку на Багамы с ее подружками и их парнями. Я сидел дома, почти всегда трезвый, к изумлению моих родителей. Они с ней так и не познакомились, но им нравилось, как она на меня влияла. Утром на Рождество я сходил с ними в церковь, и хотя не молился, не пел и не причащался, я все-таки был там. Надел спортивный пиджак и съездил с ними в загородный клуб. Улыбался и здоровался с их друзьями, когда к нам подходили. Рано ложился, рано вставал. Обсуждал карьеру, может быть, учебу в школе бизнеса, а отец говорил, что у него есть друг в совете КУ в Беркли, который может помочь мне попасть туда. Месяц тянулся долго. Мне просто хотелось вернуться. Снова увидеть ее. Поцеловать, ощутить ее вкус. Почувствовать ее дыхание на шее утром. Услышать, как она зовет меня по имени в темноте. Увидеть, как она одевается. Выслушать, что она думает о том, что сейчас читает или смотрит. Улыбаться, пока она дразнит меня дерьмом, которым я питаюсь, или тем, что слишком много курю. Я уехал на день раньше. За рулем своего пикапа в метель. Пятичасовая поездка растянулась на все восемь часов, но я, по крайней мере, теперь был ближе к ней. И к ее приезду оказался на месте. Добрался до корпуса, где жил, вошел, убедился, что пока вернулся только я. Зашел к себе в комнату, увидел на моей койке книгу, а поверх нее – записку от соседа по комнате Энди из Лос-Анджелеса:
«С Рождеством!
Хотел сделать тебе подарок до отъезда.
Думаю, тебе понравится».
Книга была старой и потрепанной, в твердом переплете, с голубенькой суперобложкой и крупными черными буквами заголовка спереди:
Генри Миллер
Тропик Рака
Я поставил на пол сумку, сбросил ботинки, лег на койку, взял книгу и открыл ее.
И с первого же предложения
«Я живу на вилле Боргезе»[2].
С первого абзаца
«Кругом – ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы – мертвецы».
С первой страницы
«Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте? Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко».
Меня проняло.
«Борис только что изложил мне свою точку зрения… Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние. – Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой – это вовсе не Время, это Отсутствие времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится».
Я не верил своим глазам: что я читаю. Что говорил Генри Миллер и как он это говорил.
«Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда принесло.
У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я – счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я есть. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо».
Будто лампочка включилась, лампочка у меня в мозгу, лампочка у меня в сердце, лампочка в моей душе.
«В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга. Это – клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте… всему чему хотите».
Я улыбался и перечитывал эту страницу еще раз, и еще, и еще. Она смешила меня, шокировала, говорила со мной. Просто и прямо. Без претензий. Без брехни. Если почти все писатели пытались впечатлить своими мозгами, своим умением, своей виртуозностью, Генри Миллер этого не делал. Казалось, что он говорит, говорит со мной, сидит у меня внутри и рассказывает обо всем, что я всегда хотел услышать, но никогда не удавалось прежде. За свою жизнь я прочитал столько книг, но не представлял, что мог бы написать такую. Писатели всегда были умнее меня, одареннее, учились в школах получше, больше путешествовали, имели больше опыта, больше видели, пережили и совершили. Они владели каким-то волшебством, которого не было у меня. Они творили со словами такое, что я бы никогда не смог. Сидели и работали изо дня в день, изо дня в день рассказывали истории, каких я не смог бы рассказать. Они были тем, чем я не был. Были писателями. Загадочными и талантливыми и образованными и выше меня. А я был говном. Уродом и вандалом с дерьмовыми отметками, которому лишь бы бухать и нюхать кокаин. Я вообще не верил, что мог бы стать одним из них.
До сих пор.
До сих пор.
До сих пор.
Я продолжал читать. Книгу с еблей прогулками едой чтением писанием желанием, о красоте гнева, о безмятежности одиночества, о том, какая это сила, когда тебе похрен, о благородстве глубокого неравнодушия. Я продолжал читать книгу о любви, о любви ко всему и ни к чему, о любви к женщинам и к искусству, о литературе, о друзьях, о горячей еде и крепкой выпивке и сигарете в солнечный день, о пустой скамейке в парке, о переполненном баре, о паре баксов в кармане и вообще ни о чем. Я читал эту книгу дальше – о человеке, который избавился от всего дерьма, какое только есть в обществе, и поступал и говорил и жил и любил и писал так, как чувствовал и как ему нравилось, как было правильно для него и только для него одного, невзирая на правила, законы, условности и ожидания. Если ему казалось, что так будет правильно, так он и делал. Если чувствовал что-то не то, уходил не оглядываясь, не извинялся за то, кто он есть и как он жил, ни о чем не жалел. Я читал его весь день, курил, выпил бутылку дешевого вина, и мир исчез, остались только кровать подушка руки переворачивающие страницы глаза бегающие по строчкам вихри мыслей бьющееся сердце загоревшаяся душа.
Моя душа загорелась.
Зажглась.
Я уснул за чтением. Проснулся с книгой в руке. Сделал кофе закурил продолжал читать. Голова заполнилась Парижем, женщинами, одиночеством, душевными ранами и голодом и радостью и яростью, сорвавшейся с нарезки жизнью, такой далекой от всего, чем нам полагалось быть, и близкой ко всему, чего нам хочется. Генри говорил:
«Я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать».
Генри говорил:
«От моей юношеской меланхолии не осталось и следа. Мне глубоко наплевать и на мое прошлое, и на мое будущее».
Генри говорил:
«Делай что хочешь, но пусть сделанное приносит радость. Делай что хочешь, но пусть сделанное вызывает экстаз».
Генри говорил:
«Уже сотни лет мир, наш мир, умирает. И никто за эти сотни лет не додумался засунуть бомбу ему в задницу и поджечь фитиль».
Генри говорил:
«Когда в Париж приходит весна, даже самый жалкий из его обитателей должен чувствовать, что он живет в раю».
Когда звонил телефон, я не брал трубку. Когда мне надо было отлить, я читал по пути в туалет и читал, пока отливал. Когда слышал снаружи голоса, пропускал их мимо ушей. Когда в дверь стучали, я не открывал. Я читал и курил и пил и смеялся и горел и мечтал и знал. Когда прочитал последнее слово на последней странице, я знал. Я допил вторую бутылку вина. Принял душ. Вернулся в комнату. Оделся и вышел пройтись и глубоко вдыхал морозный воздух и улыбался в темноте и шептался со звездами и знал. А когда начал дрожать от холода и заныли ноги, двинулся к корпусу, где она жила, и зашел проведать ее. Она была с подругами. Обсуждали каникулы. С кем-то познакомились, съездили на Гавайи, закончили заявление в магистратуру, напились и перепихнулись с бывшим, поссорились с братом сестрой матерью отцом. Она улыбнулась, увидев меня, встала и обняла обеими руками, я вдохнул запах ее волос поцеловал ее в шею в губы взял ее за руки и зашептал: я скучал по тебе, я скучал по тебе. Она спросила где я был она думала я приехал раньше, я ответил, что ходил погулять и поглядеть на небо и звезды, она засмеялась и спросила, я что, под кайфом.
Я улыбнулся.
В каком-то смысле.
Кокс?
Не-а.
Ты же не любишь травку.
Да, не очень.
Санта принес тебе что-то этакое?
Я кивнул.
Принес.
Что?
Книгу.
Она засмеялась.
Порно?
Кое-кто так бы и подумал.
Правда?
Да, но это не оно.
И я рассказал ей про «Тропик», как нашел его, прочитал, как он поразил меня, рассказал о Париже и о своих планах. Она удивилась и растерялась.
Ты едешь в Париж?
Ага.
Чтобы стать писателем.
Ага.
Но ведь ты не пишешь.
Начну.
Думаешь, это так просто.
Да.
Почему не ходишь на писательское мастерство?
Да кому оно нужно, это писательское мастерство?
Каждый, кто хочет быть писателем, учится писательскому мастерству.
Сейчас – может быть. Но никто из писателей, которых я люблю, не учился.
Могу поспорить, некоторые учились.
Тому, что они делают, не научишь.
А как же они научились?
Просто сидели в комнате одни, писали и учились.
Так делай то же самое в Сан-Франциско.
В Париже.
В Сан-Франциско.
Поедем со мной в Париж.
Когда ты дочитал эту книгу?
Пару часов назад.
А к следующей неделе, наверное, уже уедешь.
Да ладно.
Я не собираюсь менять всю свою жизнь и уезжать в Париж только для того, чтобы ты стал писателем.
Будь у тебя мечта, я поехал бы с тобой.
Моя мечта – Сан-Франциско.
Это другое дело.
Почему?
В школе бизнеса учится миллион человек.
Начинающих писателей еще больше.
Все будет совсем не так.
Ну и как же все будет?
Я буду лучше всех, кто пробовал.
Лучше, чем выпускники Гарварда, Принстона или Стэнфорда?
Да.
Я не еду в Париж, Джей.
А я не еду в Сан-Франциско.
Я так ждала, когда мы увидимся.
Я тоже.
Я думала, мы улыбнемся, поцелуемся, возьмемся за руки, пойдем в бар, выпьем немного и вернемся сюда.
Нам и сейчас ничто не мешает.
Все мои подруги считали, что я спятила, раз я с тобой. Меня предупреждали, что ты пьянь и ушлепок и что обязательно мне хоть как-нибудь да поднасрешь. Никогда бы не подумала, что ты променяешь меня на книгу, но похоже, так и вышло.
Поднасерать тебе я не собирался.
Я же влюбилась в тебя, мы строили планы, говорили о будущем.
Оно у нас и сейчас есть.
На писательские доходы? Мы что, не собираемся покупать дом и заводить детей?
Ты же хотела карьеру? Вот и будешь делать деньги.
Я не хочу замуж за начинающего писателя, который тратит время, пачкая бумагу в четырех стенах, пока я оплачиваю его счета.
Ого.
Извини.
Ты же не чувствуешь за собой вины. Ты на самом деле так считаешь. Лады. Только ты ошиблась: хоть я и жопа, говном я не буду никогда.
Она молчала и смотрела в пол. Я встал.
Пойду.
Она подняла голову.
Извини.
Ага.
Мне правда жаль.
Мне тоже.
Я улыбнулся, но невесело, мы оба понимали, что все кончено, все, что было между нами, ушло, и на этом всё. Я наклонился, поцеловал ее не торопясь. Потом повернулся и ушел, не дав ей шанса сказать что-нибудь и не зная даже, попыталась бы она сказать что-нибудь. Слыша, как ее соседки по комнате собираются куда-то, я вышел в ночь. Было темно холодно я видел пар от своего дыхания слышал как колотится мое сердце чувствовал как оно разбивается. Потому что как бы я ни любил ее, а я любил ее как никого и ничто в жизни, как бы ни желал ее, как бы отчетливо ни представлялось мне будущее с ней, его не будет. Все мечты только что развеялись. Я уезжал в Париж один. Чтобы найти свой путь или уничтожить себя. Стать писателем или потерпеть самое эффектное фиаско, какое только возможно. Пировать голодать скитаться умирать становиться, кричать в небо и спать в сточной канаве и танцевать на могилах кумиров. Может, она права, и я по-идиотски, дерьмово облажаюсь, а может, она ошиблась, и у меня на самом деле что-то получится. Но как бы там ни было, что будет с ней, я знал. Закончит учебу, уедет домой, поступит в школу бизнеса, найдет отличную работу, познакомится с отличным парнем, будет ходить на отличные свидания и ездить в отличные поездки, приведет его домой познакомить с родителями, они решат, что он отличный парень, он купит ей красивое сверкающее кольцо, встанет на удивительно здоровое и успешное колено, а она притворится удивленной, скажет «да», заплачет, они устроят отличную свадьбу в Напе, будут жить в отличной городской квартире, пока она не забеременеет, и тогда они переселятся в Марин, вступят в клуб, заведут пару отличных детей, дети пойдут в отличные частные школы, на каникулы будут ездить на Гавайи и в Аспен, будут вроде как счастливы и вроде бы охренеть как несчастны, и все будет отлично. А я уеду в Париж, попытать гребаную удачу.
Я вернулся в комнату и снова увидел ту книгу, голубую обложку на моей кровати. Открыл ее прочитал первую страницу и засмеялся когда закончил и я знал знал знал. Знал на хуй как больше ничто и никогда. В Париж. Один. Как только смогу. Как только смогу на хуй.
2
Здесь и далее цитаты из романа Г. Миллера «Тропик Рака» приведены в переводе Г. П. Егорова.