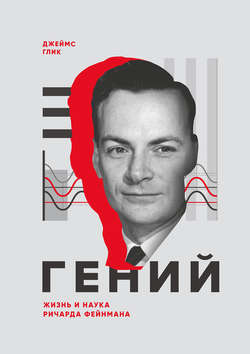Читать книгу Гений. Жизнь и наука Ричарда Фейнмана - Джеймс Глик - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Массачусетский технологический институт
* * *
ОглавлениеСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ студент-первокурсник Теодор Велтон на Дне открытых дверей Массачусетского технологического института (МТИ) весной 1936 года помогал студентам старших курсов демонстрировать работу аэродинамической трубы. Как и большинство его однокурсников, поступая в институт, он знал все о самолетах, электричестве, химических веществах и восхищался Альбертом Эйнштейном. Он был родом из маленького городка Саратога-Спрингс, расположенного в штате Нью-Йорк. Проучившись почти год в институте, Велтон не растерял уверенности в себе. Закончив выполнять свои обязанности по обслуживанию аэродинамической трубы, он отправился посмотреть другие научные экспонаты, которые превратили мероприятие в настоящую выставку для родителей и гостей из Бостона. Он подошел к математической секции и там, в толпе, заметил еще одного похожего на него первокурсника с оттопыренными ушами и румянцем на лице. Тот как-то несуразно управлялся со сложным вычислительным устройством величиной с чемодан, которое называлось анализатор гармоник. Парень фонтанировал объяснениями и отвечал на вопросы как конгрессмен на пресс-конференции. Устройство могло разложить любую волну на сумму синусоидальных и косинусоидальных волн. У Велтона прямо уши загорелись, когда он услышал, как Дик Фейнман пылко объясняет принципы работы преобразования Фурье – сложного математического метода гармонического (спектрального) анализа волн. До этого он и подумать не мог, что кто-то из новичков, кроме него, обладает такими знаниями.
Велтон (предпочитавший, чтобы его называли по инициалам Ти Эй) выбрал физику в качестве основного предмета. Фейнман же дважды менял специализацию. Сначала он поступил на математический. По результатам экзаменов его взяли сразу на второй год вычислительного курса, где изучали дифференциальные уравнения и интегрирование по трем переменным. Это было просто, и Фейнман подумывал о досрочной сдаче экзаменов. Но в то же время он сомневался, что хочет посвятить этому свою жизнь. Американские математики в 1930-х годах как никогда оперировали строгими теоретическими понятиями и презирали так называемую прикладную часть. Фейнману же, наконец-то оказавшемуся среди единомышленников и знатоков радио, математика теперь казалась слишком абстрактной и неконкретной наукой.
По рассказам современных физиков, поворотным моментом в их жизни часто бывает тот, когда они начинают осознавать, что математика перестала быть для них интересной. А начинали все, как правило, именно с нее, потому что ни один другой школьный предмет не позволял в полной мере проявить свои способности. Потом или наступал кризис и прозрение, или возникала неудовлетворенность, и они или сразу, или постепенно начинали интересоваться смежными областями науки. Вернер Гейзенберг, который был на семнадцать лет старше Фейнмана, пережил такой кризисный момент, когда работал на знаменитого математика Фердинанда фон Линдемана в Мюнхенском университете. Лохматая, вечно тявкающая собака Линдемана почему-то никак не выходила у Гейзенберга из головы. Она напоминала ему пуделя из «Фауста» и совершенно не давала возможности сосредоточиться, когда профессор, застав Гейзенберга за чтением новой книги Вейля о теории относительности, сказал: «Раз так, вы совершенно потеряны для математики». Фейнман, проучившись полгода на первом курсе и прочитав работу Эддингтона о теории относительности, обратился к декану своего факультета с классическим вопросом: «Для чего нужна математика?» И получил ответ: «Если вы спрашиваете, то вам тут не место».
Возникало ощущение, что изучать математику надо лишь для того, чтобы потом преподавать математику. Декан предложил ему сделать расчет вероятностей для страховых компаний. И он не шутил. Незадолго до этого доктор наук Эдвард Мендж провел исследования профессиональной среды, и полученные результаты вошли в его монографию «Возможности карьерного роста для выпускников научных факультетов» (Jobs for the College Graduate in Science). Доктор Мендж писал: «Американцев в большей степени привлекают прикладные, нежели фундаментальные принципы, также называемые “практичными”». И это значительно ограничивало перспективы трудоустройства для тех, кто планировал связать жизнь с математикой, ведь, согласно выводам Менджа, «найти хорошую работу математикам довольно сложно, разве что занять профессорскую должность в университете. Но можно найти и практическое применение знаниям, устроившись экспертом-статистиком в одну из крупных страховых компаний…» Фейнман перешел сначала на электротехнический, а потом снова на факультет физики.
И вовсе не потому, что физики имели больше возможностей в профессиональном плане. Американское физическое общество к тому моменту насчитывало всего две тысячи членов. И хотя их количество увеличилось вдвое за десять лет, но все же оно выглядело отнюдь не впечатляюще. Работая в сфере образования, в Национальном бюро стандартов или в Бюро погоды, физик мог рассчитывать на хорошую зарплату от трех до шести тысяч долларов в год. Однако Великая депрессия вынудила правительство и ведущие исследовательские корпорации сократить почти наполовину штат научных сотрудников. Профессор физики из Гарварда Эдвин Кемпбл перспективы трудоустройства выпускников-физиков назвал кошмаром. И аргументов в пользу того, чтобы специализироваться в этой области науки, не хватало.
Отвлекаясь от своего прагматизма, Мендж, пожалуй, предоставил единственный такой аргумент. «Испытывает ли студент, – спросил он, – непреодолимое желание внести свой вклад в мировую науку? Хочет ли он работать не покладая рук, чтобы его труды были заметны, как круги на водной глади от брошенного камня? Другими словами, настолько ли он увлечен предметом, что не остановится, пока не узнает о нем все, что только возможно?»
Три самых влиятельных американских физика – Джон Слейтер, Филип Морс и Джулиус Страттон – работали в тот период в Массачусетском технологическом институте. Они были выходцами из приличных семей, воспитаны в духе христианских традиций и полностью соответствовали стереотипу ученого, в отличие от всех тех, кому вскоре суждено было затмить их. Иностранцы, например Ханс Бете[46] и Юджин Вигнер[47], уже прибыли в Корнеллский и Принстонский университеты. Евреев Исидора Раби и Роберта Оппенгеймера приняли на работу в Колумбийский и Калифорнийский, несмотря на антисемитские настроения и в том, и в другом университетах. Страттон впоследствии возглавил Массачусетский технологический, а Морс стал первым руководителем Брукхейвенской национальной лаборатории ядерных исследований. Слейтер занимал должность декана. Он был представителем американской молодежи, получившей образование за границей. Впрочем, он не особенно глубоко погрузился в пучины европейской физики, как, например, Раби, который учился и в Цюрихе, и в Мюнхене, и в Копенгагене, и в Гамбурге, и в Лейпциге, и снова в Цюрихе. Слейтер прошел краткий курс в Кембридже в 1923 году и почему-то упустил возможность встретиться с Дираком, хотя, как минимум, они оба прослушали один общий курс.
Однако в интеллектуальном плане Слейтер и Дирак в последующие десять лет сталкивались неоднократно. Слейтер постоянно делал незначительные открытия, о которых Дирак сообщал за несколько месяцев до этого. Это раздражало Слейтера. У него создавалось впечатление, что Дирак намеренно скрывает результаты своих исследований, окутывая их паутиной совершенно лишних запутанных математических формулировок, которым Слейтер не доверял. На самом деле он сомневался в весьма размытых философских концепциях, которые использовали европейские ученые в квантовой механике. Все эти утверждения о дуальности или взаимодополняемости напоминали ему историю доктора Джекила и мистера Хайда. Сомнения вызывали и трактовки времени и вероятности, а также домыслы о влиянии человека как стороннего наблюдателя. «Не люблю мистику, – говорил Слейтер. – Я предпочитаю точность». Большинство европейских физиков откровенно не скрывало свои проблемы. Некоторые из них считали своим долгом принять на себя ответственность за последствия полученных расчетов. Они отказывались внедрять свои новейшие разработки, пока физическая картина не прояснится полностью. Чем больше они манипулировали матрицами, чем больше перетасовывали дифференциальные уравнения, тем больше начинали сомневаться. Куда девается частица, когда никто не смотрит? За каменными стенами старых университетов владычествовали старые привычные воззрения. Теорией о спонтанном возникновении фотонов в излучении возбужденных атомов – эффект без причины – ученые как кувалдой могли размахивать в спорах о кантианской причинности природы. В Европе, возможно, но не в Америке. «В наше время физика-теоретика в теориях должно интересовать лишь одно, – безапелляционно высказался Слейтер вскоре после того, как Фейнман поступил в Массачусетский технологический. – Теории должны давать четкие прогнозы о ходе экспериментов. Ничего более».
Слейтер не просто оспаривал философский подход в физике. «Вопросы о теориях, которые не в состоянии правильно предсказать результаты экспериментов, кажутся мне бессмысленными, – говорил он. – И я предпочел бы оставить их тем, кто получает от них хоть какое-то удовольствие».
Высказываясь в защиту здравого смысла и практичности и утверждая, что теория должна быть служанкой эксперимента, Слейтер обращался в первую очередь к своим американским коллегам. Эдисон, а не Эйнштейн, все еще олицетворял для них образ ученого. Упорный труд, а не вдохновение. Математика непостижима и ненадежна. Другой физик, Эдвард Кондон, говорил, что всем известно, чем занимаются физики, использующие математические методы: «Они внимательно изучают результаты экспериментов и переписывают их таким образом, что сами едва могут прочитать свои математические выражения. Физика только тогда оправдывает себя, – добавлял он, – когда позволяет прогнозировать результат эксперимента, и только в тех случаях, когда на предсказание требуется меньше времени, чем на проведение самого эксперимента».
В отличие от европейских коллег, американские физики-теоретики не имели своих кафедр. Они вынуждены были делить помещения с экспериментаторами, вникать в их проблемы и пытаться давать практичные ответы на их вопросы. Тем не менее время эдисоновской науки заканчивалось, и Слейтер знал это. По распоряжению ректора МТИ Карла Комптона он создал кафедру теоретической физики, чтобы вывести эту область на передовые позиции американской науки и способствовать тому, чтобы страна выглядела на мировой научной арене более достойно. Он и коллеги знали, насколько не готовы Соединенные Штаты заниматься подготовкой нового поколения физиков. Знали об этом и руководители стремительно развивающихся технологических производств.
Когда Слейтер вступал в должность, кафедра Массачусетского технологического насчитывала едва ли дюжину аспирантов. Шесть лет спустя их количество увеличилось до шестидесяти. Несмотря на Великую депрессию, в Институте появились физическая и химическая лаборатории, финансируемые промышленником Джорджем Истманом. Основная часть исследований касалась возможности использования электромагнитного излучения для определения структуры вещества. Большое внимание уделялось спектроскопии – определению спектрального состава светового излучения различных веществ, а также рентгеновской кристаллографии. (Каждый раз, когда физики обнаруживали новый вид «лучей» или частиц, они использовали рентгеновские лучи для определения расстояния между молекулами.) Новое вакуумное оборудование и отличные зеркала, изготовленные методом травления, позволяли делать точный спектральный анализ. А мощнейшие электромагниты создавали поля, равных по силе которым еще не было.
Джулиус Страттон и Филип Морс читали спецкурс старшекурсникам и аспирантам, который назывался так же, как и работа Слейтера – «Введение в теоретическую физику». Слейтер с коллегами разработал его всего несколькими годами ранее. В нем воплотились основные принципы их новых взглядов на преподавание физики в МТИ. Смысл в том, чтобы объединить в новом курсе дисциплины, которые преподавались до этого раздельно. В их число входили механика, электромагнетизм, термодинамика, гидродинамика и оптика. Студенты изучали эти предметы постепенно, в специальных лабораториях, причем основное внимание уделялось проведению экспериментов. Слейтер же объединил эти предметы, чтобы подготовить студентов к изучению нового направления – современной теории атома. Еще не существовало курса квантовой механики, но студенты Слейтера уже рассматривали атом не с точки зрения классической механики, в которой действуют законы движения твердых тел, а с точки зрения волновой теории, где изучают вибрирующие струны и звуковые волны, существующие внутри полых объектов. Преподаватели с самого начала объясняли студентам, что на начальной стадии изучения теоретической физики их задача будет заключаться не в том, чтобы освоить математические вычисления, но в том, чтобы применить математические методы к реальным явлениям во всем их разнообразии: движение тел и жидкостей, магнитные поля и силы, течение воды и электрический ток, волны на воде и световые волны.
Первокурсник Фейнман жил в комнате с двумя старшекурсниками, посещавшими эти лекции. В течение года он привык к их разговорам и даже иногда принимал участие в спорах, удивляя соседей, предлагая свой способ решения задач. «Почему бы не попробовать уравнение Бернулли?» – спрашивал он. В его произношении фамилия звучала как «Берноули»[48], ведь он получил знания, читая энциклопедии и немногочисленные учебники, которые находил в Фар-Рокуэй. Ко второму курсу он решил, что и сам готов изучить этот курс.
В первый день все заполняли регистрационные карточки: у старшекурсников карточки были зеленые, у аспирантов – коричневые. Фейнман с гордостью ощущал в своем кармане розовую карточку студента-второкурсника. Кроме того, он носил офицерскую форму ROTC[49], так как внестроевая подготовка была обязательной для учащихся первых курсов. Он выделялся среди остальных, поэтому к нему подсел еще один второкурсник в форме. Это был Ти Эй Велтон. Он помнил математический талант Ричарда еще со дня открытых дверей, что состоялся весной.
46
Ханс Бете (1906, Германия – 2005) – американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике (1967).
47
Юджин Вигнер (1902–1995) – американский физик и математик венгерского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике (1963).
48
Фейнман, произнося фамилию ученого, основывался только на ее написании Bernoulli и никогда не слышал, как она звучит. В английском возможны разночтения буквенных сочетаний в иностранных фамилиях. Прим. перев.
49
ROTC – Reserve Officers’ Training Corps – служба вневойсковой подготовки офицеров запаса.