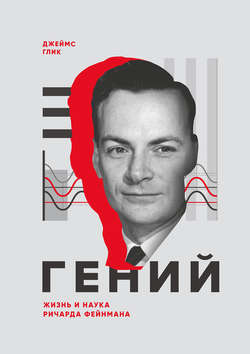Читать книгу Гений. Жизнь и наука Ричарда Фейнмана - Джеймс Глик - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Пролог
Оглавление«МЫ НИ В ЧЕМ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, – такое обнадеживающее послание пришло в курортный городок Альбукерке[1] из засекреченного мира Лос-Аламоса[2]. – Нам сказочно повезло в жизни».
Придет время, когда создателей бомбы будут терзать демоны. Роберт Оппенгеймер не раз скажет о темной стороне своей души, а его переживания из-за того, что он открыл человечеству путь к самоуничтожению, почувствуют и остальные ученые-физики[3]. Среди них Ричард Фейнман был самым молодым и не так сильно ощущал ответственность за свои действия. Его скорее угнетала мысль, что знания отдаляют его от мира обычных людей, продолжающих жить так, как они жили раньше, и не замечающих роковой ядерной угрозы, которую несет с собой наука. К чему строить дороги и мосты на столетия? Если бы люди знали о том, что известно ему, вряд ли они стали бы утруждаться. Война закончилась. Начиналась новая эра науки, но это не приносило Фейнману спокойствия. Какое-то время он едва мог работать: днем это был молодой вспыльчивый профессор Корнеллского университета, вечером – страстный любовник, успевающий побывать и на тусовках первокурсников (где девушки косо поглядывали на танцующего, размахивающего ногами парня, утверждавшего, что он ученый, сконструировавший атомную бомбу), и в барах и борделях. Ричард производил неоднозначное первое впечатление на своих новых коллег-ровесников, молодых физиков и математиков. «То ли гений, то ли шут», – писал своим родителям в Англию одаренный молодой ученый Фримен Дайсон. Фейнман поразил его: оглушительный американец, непринужденный в общении и буквально пышущий энергией. Дайсону потребовалось некоторое время, чтобы понять, с какой одержимостью его новый друг погружался в недра современной науки.
Весной 1948 года двадцать семь физиков встретились в отеле в горах Поконо в Северной Пенсильвании, чтобы обсудить проблемы, возникшие в понимании сути теории атома. Мир еще не знал, что это именно они создали бомбу. С подачи Оппенгеймера, ставшего их духовным лидером, ученые собрали чуть больше тысячи долларов. Этого как раз хватало на оплату проживания, билетов на поезд и алкоголя. В истории науки этот случай предпоследний, когда ученые столь высокого уровня встретились без соблюдения церемоний и огласки. Они еще позволяли себе предаваться иллюзиям – надеяться, что их работа останется обычным научным корпоративным проектом, незаметным для широкого круга общественности, как десять лет назад во время исследований в скромном здании в Копенгагене. Они еще не осознавали, насколько успешно им удалось убедить общественность и военных в том, что будущее высоких технологий – за физикой[4]. Встреча была закрытой. На нее пригласили только нескольких ученых, элиту физической науки. Никаких записей. Через год многие из присутствующих встретятся снова, загрузив в фургон Оппенгеймера пару грифельных досок и восемьдесят два бокала для коктейлей и бренди. Но к тому времени уже наступит совершенно новая эпоха физики. Наука выйдет на невиданный доселе уровень, а основоположники квантовой физики никогда больше не соберутся в частном порядке – только по работе.
Бомба показала возможности физики. Абстрактные чертежи оказались столь основательными, что смогли изменить историю. Однако в более спокойные послевоенные годы ученые хотя и осознавали хрупкость своей теории, но все же полагали, что квантовая механика позволяет делать пусть и приблизительные, но вполне работоспособные расчеты, касающиеся природы света и вещества. На поверку же теория оказалась неверна. И не просто неверна – бессмысленна. Кому понравится теория, безупречная при выполнении приблизительных расчетов и так нелепо рассыпающаяся при попытке сделать более точные вычисления? Европейцы, создавшие квантовую физику, делали все возможное, чтобы укрепить теорию. Но безуспешно.
Откуда могли они хоть что-то узнать? Масса электрона? Да ради бога! Приблизительные расчеты давали вполне приемлемые значения, при более точных получали бесконечность, – полнейший абсурд. Само понятие массы расплывалось: электрон, массу которого пытались рассчитать, не был полностью ни материей, ни энергией[5]. Фейнман же относился к проблеме крайне несерьезно. Его тонкую записную книжку оливкового цвета из магазина «Всё за доллар» заполняли в основном телефоны женщин и пометки хорошо танцует или не звонить, когда у нее ПМС. На последней странице этой книжки Фейнман однажды записал короткое хайку:
Правило:
Вы не можете утверждать, что А сделано из Б,
Или наоборот.
Любая масса – это взаимодействие.
Даже когда квантовая физика работала и позволяла предсказывать, как будут протекать те или иные природные явления, ученые все равно испытывали чувство неудовлетворенности: слишком много белых пятен оставалось на картине, призванной, по их мнению, отражать реальность. Некоторые из них полагались на авторитетное мнение Вернера Гейзенберга[6] «Уравнению лучше знать». Но только не Фейнман. Впрочем, особенно и выбирать-то тогда не из чего было. Ученые не могли даже вообразить, что представляет собой атом, который они только что успешно расщепили. Они создали и сами же потом отбросили планетарную модель атома, в которой мельчайшие частицы вращались вокруг ядра, словно планеты вокруг Солнца. Теперь эту модель нечем было заменить[7]. Можно сколько угодно писать на досках числа и символы. Но картина по-прежнему размыта и неясна.
Ко встрече в Поконо Оппенгеймер достиг пика своей славы. Он уже считался героем – создателем атомной бомбы, но еще не стал злодеем и фигурантом судебных процессов по безопасности 1950-х. Номинально председателем был он, но на встрече присутствовали и более именитые ученые: Нильс Бор, создатель квантовой теории, прибывший из своего института в Дании; Энрико Ферми, разработчик цепной ядерной реакции, прибывший из лаборатории в Чикаго; Поль Дирак[8], британский физик-теоретик, чье знаменитое уравнение электрона как раз и способствовало возникновению кризиса[9]. Все они были нобелевскими лауреатами. Большинство участников встречи, за исключением Оппенгеймера, либо уже получили премию, либо готовились к этому в будущем. Впрочем, некоторые европейские ученые отсутствовали. Например, Альберт Эйнштейн, привыкавший к роли заслуженного пенсионера. В остальном же в Поконо собрался весь цвет современной физики.
Когда слово взял Фейнман, уже стемнело. Стулья сдвинулись. Светила не совсем понимали, что хочет сказать этот порывистый молодой человек. Большую часть дня они слушали виртуозный доклад ровесника Фейнмана Джулиана Швингера из Гарвардского университета. И хотя за рассуждениями Швингера уследить было трудно (опубликованная позднее работа нарушала правила журнала Physical Review не использовать формулы, не умещающиеся на ширине страницы), доказательства он представил вполне убедительные. Фейнман же предлагал их вниманию все меньше и меньше столь тщательно выписанных уравнений. Эти люди знали его по работе в Лос-Аламосе, кто-то лучше, кто-то хуже. Сам Оппенгеймер в приватных беседах отмечал Фейнмана как самого одаренного молодого физика, участвовавшего в разработке атомной бомбы. Как Фейнману удалось заработать такую репутацию, точно объяснить никто из них не мог. Некоторые из присутствовавших знали, какой вклад он внес в создание ключевого уравнения мощности ядерного взрыва (хотя до сих пор эти данные засекречены, несмотря на то что немецкий шпион Клаус Фукс оперативно передал их своим недоверчивым руководителям в Советском Союзе). Знали они и о его теории преддетонации, оценивающей вероятность того, что ядерная реакция в большей части урана может начаться преждевременно. И хотя никто ничего конкретного о научных достижениях Фейнмана не знал, все признавали его нестандартное мышление. Все помнили, как он спроектировал первый крупномасштабный вычислительный комплекс – гибрид новых электромеханических калькуляторов и команды женщин, использующих перфокарты. Все помнили, как он буквально завораживал своими лекциями по элементарной арифметике, как неистово нажимал кнопку в игре, пытаясь столкнуть два электронных поезда, как мог демонстративно неподвижно сидеть в военном грузовике, освещаемый бело-сиреневой вспышкой мощнейшего взрыва столетия.
И вот теперь, выступая перед своими более зрелыми коллегами, собравшимися в гостиной поместья Поконо, Фейнман понял, что испытывает замешательство, причем это чувство стало усиливаться. Он нервничал, хотя для него это было нехарактерно. Он не выспался. И, конечно же, он тоже слышал прекрасное выступление Швингера и опасался, что его собственное на таком фоне будет выглядеть недоработанным. Фейнман пытался объяснить новый метод, позволяющий делать более точные вычисления, в которых так нуждались физики. Пожалуй, нечто большее, чем метод – новое видение, своего рода танец, потрясающая картина, составленная из частиц, символов, стрелок и пространств. Идеи и предположения выглядели непривычными, а слегка взбалмошный стиль Ричарда раздражал некоторых европейцев. Его пронзительные гласные, напоминавшие городской шум. Согласные, которые он глотал на манер представителей низших слоев общества. Фейнман слегка раскачивался на месте, переминаясь с ноги на ногу, и постоянно крутил кусочек мела между пальцами. До его тридцатилетия оставалось несколько недель, и для мальчика-вундеркинда он был уже слишком стар. Он попытался опустить детали, которые могли вызвать вопросы, но опоздал. Эдвард Теллер, придирчивый венгерский физик, работавший после войны над проектом создания водородной бомбы «Супер», перебил его.
– А как же принцип запрета?[10] – спросил он.
Фейнман надеялся избежать этого вопроса. В соответствии с принципом запрета только один электрон мог находиться в определенном квантовом состоянии. Теллер был уверен, что поймал Фейнмана, пытающегося вытащить двух кроликов из одной шляпы. В самом деле, в теории Фейнмана частицы, казалось, нарушали этот чтимый всеми принцип, возникший из ниоткуда.
– Это не важно, – начал Фейнман.
– С чего вы взяли?
– Я знаю, я работал с…
– Как такое возможно?! – заявил Теллер.
Фейнман рисовал на доске непривычные диаграммы. Он показал, что частица антиматерии движется в обратном направлении во времени. Это заинтриговало Дирака, ведь именно он первым заговорил о существовании антиматерии. И вот теперь уже Дирак задал вопрос о причинно-следственной связи.
– Они унитарны?
Унитарны! Да что он хотел этим сказать?
– Я объясню, – начал Фейнман, – и когда вы увидите, как это работает, вы сами решите, унитарны ли они.
Он продолжил, но время от времени в голове у него все еще звучало ворчание Дирака: «Они унитарны?»
Фейнман, блестящий в расчетах, профан в литературе, страстно преданный физике, дерзкий, когда дело касалось доказательств, в этот раз переоценил свою способность произвести впечатление на этих великих ученых и убедить их. Однако, по правде говоря, ему удалось найти то, что безуспешно искали его старшие коллеги – способ вывести физику на совершенно иной уровень. Он заложил теоретические основы новой науки, которая объединила прошлое и будущее в величественном полотне. Дайсон, друг Ричарда по Корнеллскому университету, по этому поводу заметил: «Это удивительный взгляд на мир как на переплетения мировых линий в пространстве и времени, где все находится в свободном движении. Это обобщающий принцип, способный объяснить все или не объяснить ничего».
Физика XX века оказалась в сложной ситуации. Представители старшего поколения искали способы, позволяющие им обойти ограничения при проведении расчетов. И хотя слушатели Фейнмана были открыты новым идеям молодого физика, все же над ними властвовали привычные представления о мире атомов. Нельзя сказать, что ученые придерживались единой точки зрения, их взгляды различались, но четкого понимания происходящих процессов не было ни у кого. Одни были сторонниками волновой теории – «математических волн», движущихся из прошлого в настоящее. Часто, впрочем, волны вели себя как частицы, подобные тем, траектории которых Фейнман рисовал и стирал на доске. Для других же математические расчеты, цепочки сложных вычислений, в которых символы были своего рода камнями, позволяющими пройти по призрачной дорожке в тумане, служили просто прикрытием. Их система уравнений отражала микроскопический невидимый мир, игнорирующий логику поведения простых объектов, таких как движение бейсбольного мяча или волн на поверхности воды. Совершенно обычных явлений, у которых, как написал в своем стихотворении Уистен Оден,
Слава богу, и масса определена,
А не абстрактная бурда,
Которая частично где-то.
Фейнман ненавидел это стихотворение.
Объекты, которые изучала квантовая механика, всегда находились где-то в другом месте. Диаграммы же, напоминающие узоры мелкоячеистой сетки, которые Фейнман вырисовывал на доске, были, напротив, довольно определенными. Траектории выглядели классическими благодаря своей точности и четкости. С места поднялся Нильс Бор. Он знал этого молодого физика еще со времен Лос-Аламоса, они тогда открыто и рьяно спорили, и Бор искал личной встречи с Ричардом, потому что ценил его честность. Но теперь его обеспокоили заключения, которые Фейнман делал, анализируя линии на своих диаграммах. Частицы у него, казалось, двигались по траекториям, четко зафиксированным во времени и пространстве. Но так быть не могло согласно соотношению неопределенностей[11].
– Мы уже знаем, что классическое представление о движении частицы по определенной траектории не работает в квантовой механике, – сказал Бор.
По крайней мере, это то, что услышал Фейнман. Мягкий голос и знаменитый датский акцент Бора заставляли всех напрягаться, чтобы понять суть. Бор вышел и произнес долгую уничижительную лекцию о принципе неопределенности. Фейнман, удрученный, стоял в стороне. Но он не показал своего отчаяния. Тогда в горах Поконо одно поколение физиков сменялось другим. И эта смена поколений не была столь очевидной и неизбежной, как оказалось потом.
Создатель квантовой теории, яркий молодой лидер проекта атомной бомбы, разработчик универсальной диаграммы Фейнмана, страстный любитель игры на бонго, прекрасный рассказчик, Ричард Филлипс Фейнман – выдающийся физик современности. В 1940-х годах на основе частично разработанных волнового и корпускулярного подходов он создал понятный инструмент, которым мог пользоваться любой физик. Фейнман обладал невероятной способностью проникать в суть проблемы. В среде ученых, организованной, приверженной традиционной культуре, нуждающейся в героях так же страстно, как в их ниспровержении, имя Ричарда обрело особый блеск. Его называли гением. Он оставался центральной фигурой в течение сорока лет, возглавляя послевоенную науку. Сорок лет, которые изменили представление о материи и энергии и направили тех, кто их изучал, в непредсказуемый и таинственный мир. Работа, показавшаяся такой невнятной собравшимся в горах Поконо, в итоге объединила в совершенную концепцию все существовавшие феномены в области света, радио, магнетизма и электричества. За нее Фейнман получил Нобелевскую премию.
Столь же значительны по крайней мере три из его дальнейших достижений: теория сверхтекучести, объясняющая поведение жидкого гелия, способного течь без трения; теория слабых взаимодействий, описывающая реакции радиоактивного распада; теория о существовании гипотетических частиц, находящихся внутри ядра атома, положенная в основу современного представления о кварках.
В основе новых, понятных лишь немногим открытий Фейнмана лежало его видение процессов взаимодействия частиц. Он постоянно искал новые загадки. Он не мог или скорее не хотел по-разному относиться к решению престижных вопросов физики элементарных частиц и случаев более скромных и тривиальных, которые, казалось бы, связаны с наукой прошлого века. Со времен Эйнштейна никто больше не работал над решением такого широкого спектра задач. Фейнман изучал трение на гладко отполированных поверхностях, надеясь (по большей части напрасно) понять принцип трения как таковой. Он пытался разобраться, как ветер образует волны в океане, и позднее заключил: «Мы ставим ногу в трясину, а поднимаем ее уже всю в грязи». Он изучал связь между упругими свойствами кристаллов и энергией атомов, из которых они состоят. Он применил теоретические знания к экспериментальным данным, относящимся к изготовлению плоских моделей из бумаги, называемых флексагонами. Он добился заметного прогресса – хотя его самого это не удовлетворило – в создании квантовой теории гравитации, которую упустил из виду Эйнштейн. В течение многих лет он пытался проникнуть в суть процесса турбулентности в газах и жидкостях. Фейнман вывел физику на принципиально новый уровень, сделал ее престижной наукой, что само по себе во много раз превосходит все его научные заслуги. Он стал легендой еще до своего тридцатилетия, когда опубликовал разве что докторскую диссертацию (довольно глубокую, но мало кем понятую) и несколько секретных документов по проекту в Лос-Аламосе. Мастер вычислений, он впечатлял тем, что буквально прорубал путь к решению сложных проблем. Выдающиеся ученые, считавшие себя беспрекословными авторитетами, увы, безнадежно проигрывали в сравнении с Фейнманом. Таким загадочным обаянием, как у него, мог обладать разве что гладиатор или чемпион по армрестлингу. Проявлению его личных особенностей не препятствовали ни звания, ни соблюдение внешних приличий, что подчеркивало его незаурядный ум. Английский писатель Чарльз Сноу, изучавший сообщество физиков, полагал, что Фейнману не хватает «солидности», свойственной его старшим коллегам. «Немного странно… – писал Сноу. – Он бы усмехнулся, если бы уличил себя в величественной недоступности. Он ведет себя как шоумен и наслаждается этим… Словно сам Граучо Маркс[12] внезапно возникает перед учеными». Он напоминал Сноу Эйнштейна, к тому времени такого вылизанного и великого, что мало кто помнил, каким «веселым мальчишкой» тот был во времена своих открытий. Возможно, и Фейнман бы вырос в столь же монументальную фигуру. А возможно, и нет. Сноу писал: «Молодым было бы интересно встретиться с Фейнманом, когда он достигнет преклонного возраста».
Команда физиков, собранная для работы над «Проектом Манхэттен», пообщалась с Фейнманом в Чикаго, где тот решил задачу, над которой они безрезультатно бились уже месяц. «Мы видели только вершину айсберга величайшего ума», – заметил один из них позже. Однако их не могла не поразить непринужденная манера общения Фейнмана и его достижения. «Его, в отличие от большинства молодых ученых, явно не сдерживали довоенные стереотипы. У него была впечатляющая осанка танцора, быстрая речь с бродвейским выговором, куча заготовленных выражений дамского угодника и невероятно энергичная манера разговаривать». Физики быстро распознавали его театральный стиль, когда он, переступая с ноги на ногу, читал лекции. Все знали, что он не способен долгое время высидеть на месте. А если такое случалось, он комично ссутуливался, чтобы через мгновение выпрыгнуть с каким-нибудь неудобным вопросом. Европейцам вроде Бора его голос казался типично американским, напоминающим скрип наждачной бумаги, самим же американцам слышался грубый нью-йоркский выговор. Но как бы там ни было, «у нас у всех оставалось неизгладимое впечатление, будто мы столкнулись со звездой, – заметил другой молодой физик. – Слова лились из него как свет. Разве не это блестящее качество древние греки называли арете?[13] Так вот, он обладал им».
Новизна и оригинальность манили Фейнмана. Он считал, что должен создавать новое исходя из основных принципов, – опасное по своей сути качество, приводящее зачастую к неудачам или пустой трате времени. Он часто ошибался, испытывая непреодолимое желание ухватиться за глупую идею, выбрать неверный путь. Эта черта характера компенсировалась с лихвой блистательным интеллектом. «Дик мог достичь чего угодно, потому что был чертовски умен, – заметил один из теоретиков. – Он мог бы даже на Монблан взойти босиком». Исаак Ньютон говорил, что стоял на плечах гигантов[14]. Фейнман же предпочитал стоять на своих двоих, извиваясь так и эдак. По крайней мере, так со стороны казалось математику Марку Кацу, который пересекался с ним в Корнеллском университете.
«Есть два типа гениев, – говорил он, – обычные и непостижимые. Обычным гением, в общем-то, мог бы стать каждый из нас, будь в сто раз способнее. В том, как работает их ум, нет ничего загадочного. Стоит понять, как они пришли к своим открытиям, и мы начинаем думать, что тоже могли бы сделать это. С непостижимыми гениями всё иначе. Говоря математическим языком, они лежат в области ортогонального дополнения нашей с вами реальности. И нам ни при каких условиях и обстоятельствах не дано постичь, как работает их ум. Даже если мы понимаем, что они сделали, нам никогда не понять, как они к этому пришли. Они редко берут студентов, потому что им невозможно подражать. А талантливым молодым умам невероятно досадно иметь дело с таким таинственным сознанием. Ричард Фейнман – непостижимый гений высшего уровня».
У Фейнмана вызывали негодование приукрашенные мифы, которыми изобилует история науки, мифы, вынуждающие делать ложные шаги и препятствующие прогрессу своими старомодными утверждениями. Но сам он создал собственный миф. Когда Фейнман вознесся на вершину научного пантеона, истории о его гениальности и похождениях стали своего рода видом искусства в среде ученых. Искрометные и смешные, все они постепенно сложились в легенду, от которой их главному герою редко удавалось отступить. Многие из них были записаны и опубликованы в 1980-х годах в двух книгах «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»[15] и «Какое тебе дело до того, что думают другие?»[16]. Неожиданно эти книги стали бестселлерами.
После смерти Фейнмана в 1988 году бывший когда-то его другом, коллегой, компаньоном, но в то же время и соперником американец Мюррей Гелл-Манн[17] возмутил семью Ричарда своим высказыванием на поминальной службе, заявив: «Ричард окружил себя пеленой мифов. Он тратил уйму времени и сил, рассказывая анекдоты о себе. В этих историях, – добавил Гелл-Манн, – он должен был выглядеть, по возможности, умнее остальных». Фейнман представал в них наглецом, бабником, шутом и простодушным ребенком. Во время работы над проектом атомной бомбы он стал «занозой в заднице» у военных цензоров. Во время расследования взрыва космического шаттла в 1986 году за ним закрепилась репутация отщепенца, вечно просачивающегося за ограждения в поисках истины. Он терпеть не мог напыщенности, условностей, шарлатанства и лицемерия. Он был тем самым мальчиком, закричавшим, что король голый. Но в то же время и Гленн-Ман по-своему прав. Легенды, ходившие о Фейнмане, порождали неверное представление о его достижениях, стиле работы и убеждениях. Его собственное мнение о себе скорее скрывало, чем обнажало его гениальность.
Его репутацию, не говоря уже о личности, можно сравнить с монументальным сооружением, возведенным среди остальных декораций современной науки. Диаграммы Фейнмана, интегралы Фейнмана, правила Фейнмана, сдобренные историями о Фейнмане, стали притчей во языцех среди физиков. Если молодой физик подавал надежды, о нем говорили: «Не Фейнман, конечно, но все же». Стоило ему войти в помещение, где собрались физики, – будь то студенческая столовая Калифорнийского технологического института или аудитория, в которой происходило научное совещание, – тут же всюду расползался шепот. Пространство словно колебалось от исходящих от него волн, нес ли он поднос или сидел в первом ряду. Даже старшие коллеги смотрели на него лишь украдкой, а на молодых физиков фейнмановское грубоватое обаяние оказывало неизгладимое впечатление. Они пытались подражать его манере письма и тому, как небрежно он бросал формулы на грифельную доску. В одной из групп даже провели полусерьезную дискуссию по вопросу, человек ли он. Они завидовали вдохновению, которое приходило к нему (во всяком случае, так им казалось) как вспышка. Восхищались и другими его качествами: верой в простые истины природы, скептическим отношением к официальным данным и нетерпимостью к посредственности.
Его считали великим педагогом. В реальности же редко у кого из физиков даже средней руки было так мало студентов, которыми он непосредственно руководил: Фейнман постоянно уклонялся от обычных обязанностей преподавателей. Хотя научная стажировка оставалась одной из основных областей, где студенты могли совершенствовать свои знания, мало кому повезло проходить ее у Фейнмана. У него не хватало терпения, чтобы руководить студенческими исследовательскими работами, и перед теми, кто надеялся, что он будет их научным консультантом, Фейнман воздвигал огромные барьеры. В тех же редких случаях, когда Фейнман кого-то учил, он оставлял глубокий след. И хотя сам он не написал ни одной книги, в 1960-х годах были изданы его книги «Теория фундаментальных процессов»[18] и «Квантовая электродинамика»[19], оказавшие большое влияние на науку, которые по сути представляли собой немного отредактированные лекции Фейнмана, записанные его студентами и коллегами. В течение нескольких лет Фейнман читал свободный курс под названием «Физика Икс». Лекции проходили в подвальном помещении и предназначались только для студентов. Позже некоторые физики вспоминали его семинары как самый насыщенный интеллектуальный опыт за весь срок обучения. Помимо всего прочего, в 1961 году Фейнман пересмотрел и стал читать вводный курс физики в Калифорнийском технологическом институте. Два года первокурсники и второкурсники вместе с командой преподавателей-аспирантов изо всех сил старались постигнуть невероятную вселенную законов Фейнмана. В результате были опубликованы и стали знаменитыми «красные книги» – трехтомник «Фейнмановские лекции по физике»[20]. В них кардинально переосмысливался сам предмет изучения. Коллеги, составлявшие их, позже, несколько лет спустя, сочли эти книги слишком сложными для предполагаемых читателей. Профессора и практикующие физики, напротив, говорили, что эти три тома способны перевернуть их собственное представление о предмете. Они более чем авторитетны. Ученый, написавший множество знаменитых работ, мог просто сухо сослаться на них в манере «Книга вторая, глава 41, абзац 2».
Не менее авторитетны и взгляды Фейнмана на квантовую механику, научные методы, связь науки и религии, на то, какую роль играют красота и неопределенность в получении новых знаний. Свое мнение по этим вопросам Фейнман высказывал спонтанно, по большей части в техническом контексте. Они отражены и в двух небольших научных работах, опять же написанных по материалам его лекций: «Характер физических законов»[21] и «КЭД – странная теория света и вещества»[22].
Хотя Фейнман редко давал интервью, в научной среде его часто цитировали. Он ни во что не ставил философию, считая, что она зависит от веяний и недоступна для проверки. «Философы всегда делают свои глупые замечания со стороны», – сказал он однажды, и то, как он произнес само слово «философы», прозвучало насмешливо «фигософы». Но в то же время его влияние было философским, особенно если дело касалось молодых ученых. Вспоминается, например, его высказывание в стиле Гертруды Стайн[23] о продолжавшейся нервозности по отношению к квантовой механике, а точнее, «о взгляде на мир, который представляет квантовая механика»:
«Я еще не уверен на сто процентов, что реальной проблемы не существует. Я не могу определить реальную проблему, и поэтому предполагаю, что реальной проблемы нет. Но я все еще не могу точно сказать, что ее нет».
Позже самой цитируемой его метафорой стало выражение: «Постарайтесь не спрашивать себя „Как такое возможно?“, потому что с этим вопросом все ваши труды пойдут прахом. Ведь никто не знает до сих пор, как такое возможно».
Когда Фейнман оставался один, он с карандашом и листком бумаги часто работал над афоризмами, которые потом во время лекций казались отличной импровизацией.
«Чтобы сплести свои узоры, природа использует только самые длинные нити, поэтому в любом маленьком кусочке этой ткани раскрывается структура целого полотна».
«Почему мир такой, какой есть? Почему наука такова? Как нам удается открыть новые законы, описывающие царящее вокруг нас многообразие? Постигаем ли мы простую суть природы или просто отшелушиваем кожицу с луковицы с бесконечным количеством слоев?» Иногда Фейнман отходил от практических принципов и давал ответы на эти вопросы, хотя знал, что они философские и ненаучные. Немногие замечали, но его объяснения фундаментальных метафизических понятий простоты, доступности и сути всех вещей претерпевали изменения в течение его жизни.
Фейнмановское переосмысление квантовой механики не столько объясняло, каким был мир и почему он такой, какой есть, оно скорее учило, как смотреть на мир. Это был не ответ на вопросы «что» или «почему». Это был ответ на вопрос как. Как вычислить излучение света возбужденным атомом. Как оценивать экспериментальные данные. Как делать предположения. Как создать достаточно продуктивный инструментарий для выявления новых семейств частиц.
Существуют различные виды научных знаний, но Фейнмана интересовала исключительно практическая сторона. По его мнению, знание не должно быть описательным, оно должно быть эффективным и действенным. В отличие от многих своих коллег, воспитанных в европейских традициях, Фейнман не интересовался живописью, не слушал музыку, не читал книг – даже научных. Он не позволял никому из ученых что-то подробно объяснять ему, чем приводил их в немалое замешательство. Он учился иначе, предпочитал получать знания, не опираясь на заранее составленное мнение. Во время работы над диссертацией он достаточно хорошо изучил биологию, что позволило ему внести пусть и небольшой, но довольно оригинальный вклад в понимание процессов генетических мутаций в ДНК. Однажды он предложил (а затем и выплатил) премию в одну тысячу долларов за разработку электромотора размером меньше полмиллиметра. Более позднее увлечение, когда Фейнман заинтересовался микромашиностроением, сделало физика интеллектуальным отцом целого сонма ученых, называющих область своих исследований нанотехнологиями. В юности он в течение многих месяцев подряд изучал на себе, что происходит с сознанием на стадии засыпания, а в зрелом возрасте экспериментировал, вызывая внетелесные галлюцинации, находясь в камере сенсорной депривации, с использованием марихуаны и без нее.
На его глазах физика распадалась на отдельные области знаний. Тем, кто изучал природу элементарных частиц, выделялась большая доля финансирования, и в то же время именно их деятельность вызывала основную часть жарких общественных дебатов. Они утверждали, что именно физика элементарных частиц стала самой фундаментальной наукой, вытеснив с пьедестала даже физику твердого тела (которую Гелл-Манн вообще называл убогой). Фейнман не признавал ни раздутых определений Теорий Великого объединения[24], ни пренебрежительного отношения к другим наукам.
Никогда не ставя какой-то из навыков выше или ниже остальных, Фейнман научился играть на ударных, делать массаж, рассказывать истории, клеить девушек в барах, считая, что всем этим можно овладеть, если знаешь правила. С легкой подачи своего куратора по Лос-Аламосу Ханса Бете, удивившегося, что Ричард не может извлекать корень из чисел в районе 50, он освоил некоторые хитрости умения считать в уме, хотя давно уже овладел более сложным искусством брать в уме производные и интегралы. Он научился пристраивать гальванизированные металлические палочки к пластиковым предметам – как кнопки радио. Он контролировал время в уме и заставлял муравьев двигаться в нужном направлении. Он без труда мог сыграть на наполненных бокалах и играл весь вечер на приеме в честь несравненного Нильса Бора. Даже всецело поглощенный решением научных задач и конструированием атомной бомбы, он не упускал возможности научиться «обходить» механизм старого автомата по продаже лимонада, подбирал отмычки к замкам и даже вскрывал сейфы. Он умом понимал, как сделать это. Коллеги ошибочно полагали, что Фейнман кончиками пальцев способен уловить волны от падающего стакана. И небезосновательно, ведь день за днем они наблюдали, как Ричард крутится вокруг офисного сейфа.
Размышляя о том, как использовать атомную энергию в ракетах, Фейнман разработал реактивный двигатель ядерного реактора, не настолько совершенный, чтобы использовать его на практике, но достаточно убедительный, чтобы заинтересовать правительство и патентное бюро и тут же быть похороненным под грифом секретности. С не меньшим усердием, много позже, когда обзавелся семьей, домом и садом, он тренировал собаку выполнять нелогичные команды. Например, приносить носок, лежавший рядом, но идти к нему не кратчайшим путем, а через сад, переднюю дверь и назад. (Он проводил тренировку поэтапно, пока для собаки не становилось очевидным, что ей не надо двигаться напрямик.) Он учился искать людей так, как это делали охотничьи псы, улавливая следы тепла и запахов. Научился имитировать иностранные языки, издавая странные звуки губами и языком. (Друзья потом спрашивали, почему же он в таком случае не попытался смягчить свой грубый нью-йоркский выговор.) Фейнман создавал островки практических знаний в областях, расположенных в океанах своего невежества. Не умея рисовать, он научился чертить идеальные окружности на доске. Ничего не понимая в музыке, он поспорил со своей девушкой, что научится играть «Полет шмеля», но в этот единственный раз проиграл спор. Намного позже Ричард все-таки научился рисовать, когда стало модным изображать обнаженное женское тело. Как он сам говорил, это увлечение помогло ему обрести гораздо более интересный навык – умение уговорить девушку раздеться. Но за всю свою жизнь он так и не научился отличать лево и право, пока мама не показала ему родинку на его левой руке, и даже уже став взрослым, он всегда сверялся с этим ориентиром. Он научился держать публику во время исполнения своих далеко не джазовых и не этнических импровизаций на ударных. Он мог выдать двумя руками не обычный размер три вторых или четыре третьих, каким были обучены классические музыканты, но невообразимую, впечатляющую полиритмию в семь шестых или тринадцать двенадцатых. Он научился писать по-китайски. Причем исключительно для того, чтобы насолить своей сестре, и поэтому знания его ограничивались фразой «Старший брат тоже может говорить». В эру, когда ускорители частиц высоких энергий стали играть такую важную роль в теоретической физике, он научился читать самые современные «иероглифы» – напоминающие кружева фотоизображения вспышек, возникающих при столкновении частиц в камерах Вильсона и пузырьковых камерах. Он не только «видел» новые частицы, но и отслеживал неуловимые траектории (треки) на грани систематической погрешности эксперимента. Он отшивал поклонников, преследующих его в надежде получить автограф, мастерски отказывался от приглашений прочитать лекции, скрывался от коллег, обращавшихся к нему с административными запросами. Он умел избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на главной задаче. Он победил страх старения, который гложет всех ученых, и научился жить с раковой опухолью.
После смерти Фейнмана некоторые его коллеги попытались написать эпитафии. Швингер, с которым некогда они соперничали, выбрал такие слова: «Честнейший человек, обладатель величайшей интуиции нашего времени. Ярчайший пример того, что происходит, когда осмеливаешься не плясать под чужую дудку». Наука, созданная при помощи Фейнмана, совершенно уникальна. Она стала величайшим из его достижений, хотя порой и заставляла физиков следовать по сужающейся дорожке темного тоннеля. После своей смерти Фейнман оставил и еще кое-что. Пожалуй, величайшее его наследие – урок о том, каково знать наверняка хотя бы что-то в наш век самых смутных сомнений.
1
Альбукерке – город в центральной части штата Нью-Мексико. В нем расположен Научно-исследовательский ядерный центр, в котором разрабатывалось ядерное оружие. Здесь и далее, если не обозначено иначе, примечания редактора.
2
Лос-Аламос – город в центральной части штата Нью-Мексико, в Скалистых горах. Построен на базе Лос-Аламосской национальной лаборатории Комиссией по атомной энергетике в 1943 году. Место создания первой атомной бомбы. В 1943–1957 годах закрытый город.
3
Оппенгеймер был руководителем так называемого Манхэттенского проекта по разработке атомной бомбы. Существует легенда, согласно которой толчком к разработке бомбы послужило письмо, написанное Лео Сцилардом и подписанное самим Эйнштейном. Прим. науч. ред.
4
Настоящей революцией в квантовой физике стало изобретение полупроводникового транзистора (Нобелевская премия 1956 года). Процессоры современных смартфонов вмещают миллиарды транзисторов. Прим. науч. ред.
5
Так описана проблема перенормировки в квантовой электродинамике (КЭД) – проблема, которую Фейнман с успехом решил. Прим. науч. ред.
6
Вернер Карл Гейзенберг (1901–1976) – немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932).
7
До того как Бор сформулировал свои знаменитые постулаты о стационарных орбитах электрона, подобное вращение означало бы, что электроны со временем потеряют энергию и упадут на ядро. Чего, конечно же, не происходило. Прим. науч. ред.
8
Поль Дирак (1902–1984) – один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года (совместно с Эрвином Шрёдингером).
9
Уравнение Дирака предсказывало существование электрона с положительным зарядом (известного теперь как позитрон), чего экспериментально тогда еще не наблюдали. Позже Дайсон и Фейнман предположат, что позитрон – это движущийся обратно во времени электрон. Но об этом – далее в книге. Прим. науч. ред.
10
Принцип запрета (принцип Паули) – один из фундаментальных принципов квантовой механики, согласно которому два и более тождественных фермиона (частицы с полуцелым спином) не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии.
11
Соотношение неопределенностей Гейзенберга подразумевает, что невозможно одновременно определить и местоположение, и импульс частицы. Прим. науч. ред.
12
Граучо Маркс – американский актер-комик. Прим. перев.
13
Арете – термин древнегреческой философии, означающий «доблесть», «совершенство», «превосходство». Прим. перев.
14
Галилея и Коперника. Прим. науч. ред.
15
Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! М.: КоЛибри, 1985.
16
Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? М.: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
17
Мюррей Гелл-Манн (род. 1929 г.) – американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1969 год «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».
18
Фейнман Р. Теория фундаментальных процессов. М.: Наука, 1978.
19
Фейнман Р. Квантовая электродинамика. Новокузнецк: Новокузнецкий физико-математический институт, 1998.
20
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1, в 9 т. М.: Мир, 1965.
21
Фейнман Р. Характер физических законов. М.: АСТ, Астрель, Neoclassic, 2011.
22
Фейнман Р. КЭД – странная теория света и вещества. М.: Астрель, Полиграфиздат, 2012.
23
Гертруда Стайн (1874–1946) – американская писательница, теоретик литературы.
24
Теории Великого объединения – в физике элементарных частиц группа теоретических моделей, описывающих единым образом сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. Предполагается, что при чрезвычайно высоких энергиях (выше 1014 ГэВ) эти взаимодействия объединяются.