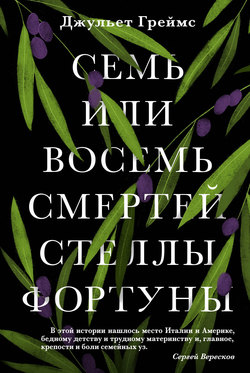Читать книгу Семь или восемь смертей Стеллы Фортуны - Джульет Греймс - Страница 4
Часть 1
Детство
Смерть № 2
Экзентерация (Боль нарастает)
ОглавлениеВторая смерть Стеллы Фортуны Второй была, пожалуй, самой драматичной из всех. Ничего удивительного в случае с экзентерацией, то есть выпадением внутренних органов. Как, почему такое произошло? Потому что Ассунта, оставленная мужем без единой лиры, добилась относительного материального благополучия и решила использовать деньги, чтобы обеспечить детям сытую жизнь. Она сама голодала, ну а дочери и сын голодать не будут! Бедность, как известно, чревата смертельной опасностью; однако чреват ею и достаток, особенно для людей, к достатку не привыкших, о подводных камнях достатка не ведающих.
За достатком Антонио уехал в Америку, и Ассунта его не корила, даром что он мог бы и семье денег послать – другие же эмигранты слали. Ну хоть немножечко – и то было бы подспорье.
Вообще сколько должно пройти времени, чтобы жена считалась брошенной? Поди разберись.
У Ассунты «мужчиной в доме» была Розина. Так уж сложилось, к счастью или к несчастью, что вдовствующая Розина всю свою энергию и любовь направила на сестру и племянников. Семнадцатью годами старше Ассунты, миниатюрная, как девочка, обожаемая племянниками, строгая, но удивительно добрая, тетушка Розина умела и приструнить, и пожалеть (мать – та только жалела), и являлась вдобавок кладезем премудростей – например, как ловчее давить гнид и как забрать яйцо из-под несушки, чтобы не клюнула. Стелла всегда старалась произвести на тетю впечатление и из кожи вон лезла, чтоб ее не огорчить.
В 1924 году взрослые сыновья Розины, Франко и Джуанни, отправились за лучшей долей на юг Франции. Розина осталась одна в доме покойного мужа, что стоял высоко на горе и глядел прямо на церковный дворик. И вот летом, когда закончился сезон разведения тутового шелкопряда, Розина решила переселиться к матери, а младшей сестре отдать в распоряжение и дом, и участок земли.
Ассунта, разумеется, упиралась.
– Твоим сыновьям некуда будет вернуться, некуда привести жен!
Розина передернула плечами. Ее не оставляло чувство, что сыновья вовсе не вернутся в захолустье вроде Иеволи. Мир изменился, все пришло в движение; все не так, как раньше. Сестры увязали Ассунтины пожитки в два тюка, водрузили их себе на головы и двинулись вверх по виа Фонтана.
Покойный муж Розины выстроил дом перед самой войной – современное жилище с потолком аж в десять футов. Такая высота обеспечивала отличную вентиляцию и не позволяла помещению перегреваться в летний зной. Стены, сложенные из крупных речных камней (камни доставили на ослах из Пьянополи), были тщательно промазаны глиной, а в ширину достигали пяти дюймов – значит, могли выдержать землетрясение вроде того, что в 1905 году разрушило почти все здания в Калабрии. В каждой стене имелось окошко со ставнями и довольно крючков для развешивания всяких хозяйственных мелочей. Кровать была широченная – дети еще не скоро вырастут настолько, чтобы им понадобились дополнительные спальные места.
Дом стал для Ассунты настоящим подарком. С замужества она, ютясь в полуподвале, обрабатывала отцовский клочок земли, который находился за кладбищем. Теперь, благодаря Розине, Ассунта посеет пшеницу и ее дети позабудут, каково оно – сидеть без хлеба, потому что их мать обретет независимость от цен на муку. Достаток породит благополучие, а там и процветание – так уж в мире устроено; сэкономленные на мукé лиры можно будет откладывать. Для женщин вроде Ассунты, без мужней поддержки и с выводком ребятишек, деньги – вечная проблема: нет ни времени, ни сил их зарабатывать, знай успевай крутись.
О, теперь Ассунта развернется! У нее будут собственные куры. И даже поросята.
Торговец поросятами заглянул в Иеволи на Пасху 1925 года. Тогда-то Ассунта и купила парочку – пятнистые, с вислыми задиками и пронзительными глазками, поросята умещались на ее ладонях, тыкались пятачками совсем по-щенячьи и трогательно всхрюкивали. Через девять месяцев, мечтала Ассунта, в каждом будет фунтов шестьсот первоклассного мяса. А это подразумевает и соленый окорок (prosciutto), и перченую лопатку (capicolo), и сырокопченую колбасу (supressata), на оболочку для которой пойдут промытые свиные кишки. Всеми этими деликатесами Ассунта станет кормить детей ежедневно. Сама она всю жизнь ела мясо дважды в год – на Рождество курятину, на Пасху козлятину; но дети ее рождены для лучшей доли.
Вскоре Ассунте открылось, что за животные свиньи. За ними нужен глаз да глаз. Покуда вырастишь крошечного поросенка на мясо, и мяса не захочешь. Во-первых, они едят, как… ну да, правильно, как свиньи. Во-вторых, постоянно хрюкают – либо еды требуют, либо, насытившись, удовольствие выражают. В-третьих, ими брезгуешь. Смышленые (не глупее собак), с проницательными, почти человечьими глазками, свиньи тем не менее гадят где стоят; они валяются в собственном навозе, а не уследишь – и сожрут его. Свинарник приходилось убирать каждое утро; в Ассунтином случае уборка означала лишний поход с ведром к цистерне. Попробуй пропусти день или, не дай бог, два дня – задохнешься. Вонища висит пеленой, оскверняет все и вся; как будто вплавь перебираешься через канаву гнилой старческой мочи́. Вонищей пропитывается одежда (потом не отстирать), вонища вползает в кухню, и Ассунта не чувствует запаха собственной стряпни, и ей кажется, что в горшочке булькает закисший свиной навоз. В тот год Ассунта без конца мыла полы и натирала столешницу лимонной кожурой – цитрусовая свежесть отчасти отбивала запах свинарника.
К лету свиньи выросли настолько, что уже не довольствовались объедками с Ассунтиного стола. Пришлось оставлять для них картошку, обделяя тем самым детей. В декабре, по наущению своей золовки Виолетты, Ассунта высыпала в кормушку все каштаны, запасенные с осени, – фигурально выражаясь, разметала перед свиньями драгоценный бисер. Потому что Виолетта клялась: мол, от каштановой мякоти мясо обретет нежную жировую прослоечку.
Стелла и Четтина любили свиней – впрочем, как и всех животных, включая ничейных кошек, шнырявших по улочкам Иеволи, и добродушных бродячих собак, благодарных за каждую корку. В свином загончике Стелла проводила целые часы. Свиньи выказывали дружелюбие. Стелла и Четтина хлопали их по вислым задам, затевали чехарду или катание верхом – свиньи охотно подставляли свои гладкие спины, и не их вина была, что маленькие наездницы не удерживались, сваливались на землю. «Только бы не разревелись мои девочки, когда придет пора свиней резать», – думала Ассунта, глядя, как развлекаются Стелла и Четтина.
Зима 1925/26 года выдалась щедрой на осадки. Четырежды снег выпадал так обильно, что Стелла и Четтина устраивали снежные бои. По утрам, пока солнце не растопило снег, девочки залегали во дворе, будто в крепости, и обстреливали снежками ребят внизу, на виа Фонтана. Те, оскальзываясь на заиндевевших булыжниках, в долгу не оставались. Воздух звенел от счастливого детского визга. Ассунта не сомневалась: не сегодня, так завтра дочери простудятся. Действительно, Четтина не просыхала от насморка, а вот Стеллу холод не брал. Она даже не зябла никогда. У нее с прошлого лета горели шрамы на руке и ключице. Девочке нравилось, что талая вода пропитывает платье, остужает вечный жар. Ассунту, впрочем, это обстоятельство не успокаивало – она продолжала бояться воспаления легких.
Накануне январского дня, о котором идет речь, снегопад был особенно силен. К утру все растаяло, белые хлопья превратились в жидкую грязь. Ассунта, как нарочно, с вечера не сняла белье. Она выскочила во двор с рассветом и добрую половину промозглого утра провела, развешивая вещи в комнате над очагом. Но погода разгулялась, и Ассунта потащила белье во двор, где веревка была натянута над дорожкой, прикрепленная к крыше свинарника.
Стелла и Четтина наблюдали за матерью из дверного проема, причем Стелла загораживала этот проем ногой, чтобы не шмыгнул во двор маленький Джузеппе. За лето Стелла вытянулась, утратила младенческую пухлость. Ассунта с удовольствием отмечала, что бедра у старшенькой будут широкие и упругие, ноги – длинные и сильные, а волосы иссиня-черные, круто вьющиеся, – как у Антонио. Четырехлетняя Четтина едва доставала Стелле до груди. Стелла привычно обнимала сестру за плечи. Обе девочки давно отвлеклись от белья и глядели теперь вниз. Ассунта увидела, что по крутой улочке, пыхтя, поднимается ее золовка Виолетта. Ясно: сейчас начнет на жизнь жаловаться, сплетничать и советы непрошеные давать о воспитании детей. Все как всегда. Ассунта помрачнела, однако крикнула старшей дочери:
– Стелла, давай-ка, пригласи тетю Виолетту в дом, пока я тут занята.
Виолетта, низенькая, крепко сбитая, отдувалась на подступах к дому. В руках у нее был какой-то сверток.
– Стелла, ну же! Кому я говорю! – повторила Ассунта.
Дочь поджала пухлые губки. Неприязнь тетки и племянницы была взаимной. Совсем недавно они повздорили. Началось все с наставления Виолетты: дескать, Стелле надо уважительнее разговаривать со старшими. Стелла огрызнулась: не станет она уважать тех, кто ей не по нраву, – а именно тетю Виолетту. Недолго думая, Виолетта отвесила племяннице пощечину. Стелла не заплакала (она никогда не плакала), а заявила:
– Вот поэтому я вас и не люблю, тетя. Вы злюка.
И демонстративно ушла из дому. Отсутствовала, пока Виолетта не убралась восвояси.
Ассунта сроду не видала, чтобы дети так себя вели. Стелле еще и шести лет не исполнилось. Розина, присутствовавшая при этой сцене, смеялась до слез.
– Ничего смешного! – накуксилась Виолетта. – Дерзкая девчонка! Необходимо принять меры, иначе в будущем с ней хлопот не оберешься. Ассунта слишком мягкосердечна, но должен же кто-то приструнить ее дочь.
– Стелла не из таковских, которых приструнивают, – возразила Розина, утирая слезы. – Упрямой уродилась ласточка моя.
И вот теперь Виолетта стояла, склонив голову набок, – ждала от Стеллы извинений. Стелла встретила ее взгляд и усмехнулась.
Ассунта не оставляла надежды на примирение дочери и золовки.
– Не дуйся, Стелла. Скажи: добро пожаловать, Zia.
– Добро пожаловать, Zia, – повторила Четтина, всегда готовая услужить. Стелла ограничилась тем, что отступила, дав тетке дорогу.
К тому времени как Ассунта разобралась с бельем и вошла в кухню, Виолетта успела развязать свой сверток. В нем оказались четыре ковриги; Виолетта резала их на крупные ломти. Нож, кстати, без спросу взяла.
– Хлеб вот заплесневел, – объяснила Виолетта. – Я подумала, свиньям твоим сгодится.
Ассунта подхватила с полу маленького Джузеппе, который до сих пор бегал без штанов. Отметила, что попка у ребенка ледяная.
– Много благодарны тебе, Виолетта, – произнесла Ассунта.
Золовка пожала плечами.
– Пустяки, Ассунта. Я всегда рада чем-нибудь пожертвовать мужниной родне.
Ага, вот он, попрек. Чтобы гостинец, даже предназначенный свиньям, больше ценили.
– Какая ты добрая, Виолетта.
Ассунта поднесла поближе маленького Джузеппе.
– Ну-ка, сынок, поцелуй тетю Виолетту.
Мальчик повиновался, да еще и с улыбочкой.
– Вот молодец, – похвалила Ассунта. Джузеппе еще почти не говорил, но уже был самым послушным, самым дружелюбным из детей. Ассунта спустила его на пол. – А теперь беги, надень штанишки.
Виолетта отерла руки о собственную юбку.
– Ну что, побалуете поросяток хлебцем? – обратилась она к девочкам, протягивая каждой по два ломтя – так, чтобы вероятный отказ сделался бы оскорбительным для щедрой дарительницы.
– Нам пойти покормить поросят? – уточнила Стелла у Ассунты. Подтекст вопроса был ясен: я лично пойду, только если ты велишь, мама.
Ассунта еле сдержала смешок. Что за дочка у нее уродилась! Маленькая язва! Не в каждой кумушке столько яду, сколько в этом глазастике с упрямым подбородком!
– Да, идите, милые, и поскорее возвращайтесь. Обедать будем.
Ни малейшего резона не было волноваться о девочках, шагнувших за порог, под яркий солнечный свет, в глянцевую слякоть.
В загончик девочки вошли без страха. Свиньи мигом учуяли хлеб, поспешили за угощением. Четтина сразу бросила на землю оба ломтя, и свиньи занялись ими, повизгивая от удовольствия. Грудные клетки (будущая вкуснейшая pancetta) колыхались от жира, сопливые пятачки приходились сестрам на уровень груди. Свиньи были совсем близко, пугали размерами, мощью, весом, прожорливостью. Покончив с хлебом, одна свинья сообразила, что с Четтины больше взять нечего, и переключилась на Стеллу. От влажного прикосновения рыла к запястью Стеллу почему-то передернуло; от взгляда черных, обрамленных вислыми белесыми ресницами глаз сделалось не по себе. Против здравого смысла и даже против воли Стелла крепче стиснула хлеб и спрятала правую руку за спину.
Вторая свинья просекла, что хлеб съеден не весь, и тоже двинулась на Стеллу. Два мокрых рыла разом ткнулись девочке в грудь. Стелла покачнулась. Это уже не игра, мелькнуло у нее; надо защищаться.
– Хрюшки! – взвизгнула Четтина. Измаранными ладошками она вцепилась в подол платьица, глазенки округлила. Тоже поняла, что дело нешуточное. – Хрюшки, вы чего?!
Стелла отлично сознавала: надо отдать хлеб, свиньи им займутся и забудут про нее. Надо только разжать пальцы. И она их разжала. Нет, не совсем так. Ее мозг послал сигнал пальцам: разожмитесь! А пальцы не послушались. В этот миг предательства со стороны собственного организма одна из свиней толкнула Стеллу. Девочка потеряла равновесие и шлепнулась в грязь, отбив копчик. Свиньи полезли на нее прямо копытами, толкаясь, визжа и хрюкая. В ужасе глядела Стелла на свою руку. Видение преследовало ее потом всю жизнь: чужая рука, меньше Стеллиной, стиснула ее пальцы, не давая выпасть хлебу.
Ни Стелла, безуспешно пытавшаяся ослабить хватку призрачной руки, ни Четтина, окаменевшая от изумления, не издавали ни звука. Слышалось только алчное хрюканье. Наконец тишину сырого утра пронзил Стеллин вопль. Ассунта и Виолетта метнулись во двор и нашли Стеллу растоптанной и погрызенной свиньями. Брюшная полость девочки была вскрыта, виднелись кишки, и на них давили острые копыта. Свиньи будто пытались отыграться, отплатить за участь, уготованную им самим. На колбасу разлакомились, двуногие? Так вот же вам, вот, вот, вот!
И вновь Ассунта бежала в Феролето с дочерью на руках. Только на сей раз надежда на спасение Стеллы в ней даже и не теплилась. Стеллин живот лопнул под копытами, словно кожура вареного каштана; вдобавок свиньи успели нанести грязи в брюшную полость.
Ассунта перевязала Стеллу посудными полотенцами. Еще недавно белые, они набухли от крови. Казалось, Ассунта тащит не ребенка, а узел с сырым мясом. Уж конечно, девочка доживает последние минуты. Что за нелепая смерть – из-за ломтя хлеба, принесенного ведьмой-золовкой!.. Ассунтино горло саднило от ледяного воздуха, от бега по каменистой тропе. В очередной раз вдохнув, она ощутила металлический привкус во рту. Кровь. Кровь горлом пошла. Ассунта покачнулась, едва не упала, но удержалась на ногах и увеличила скорость.
– Радуйся, Мария, полная благодати, Господь с тобой, – задыхаясь, повторяла Ассунта. Как там дальше, в молитве, она не помнила. Одно знала: на старшей дочери лежит проклятие.
Весь день и всю ночь, пока доктор промывал Стеллино нутро, пока штопал ей живот, и еще сутки, когда боялись, что разовьется сепсис, Стелла Фортуна была в реальной опасности. Кишки, как объяснил доктор Ассунте, сроду не резавшей животных и не представлявшей, что за пенистая жидкость выделяется из живота Стеллы, – каким-то чудом не порвались. Доктор так и выразился: это чудо. Сам золотушный и дурно пахнущий, он сделал девочке промывание брюшной полости, голыми руками уложил внутренности на место и зашил живот суровой ниткой, совсем как Ассунта зашивала свою единственную кофту. Стелла перенесла операцию с открытыми глазами. Глаза были сухи, и никто, включая саму Стеллу, не представлял, в сознании она или нет. Оказалось, что у девочки сломано несколько ребер, но, судя по тому, что кровь изо рта не шла, легкие не пострадали. Доктор оценил крепость Стеллиного скелета – у другой девочки, пожалуй, позвонки рассыпались бы под тяжестью свиных туш. Сделав последний стежок и обрезав нить, он сказал, что теперь следует опасаться только одного – заражения крови. Если девочка переживет первую неделю, он, доктор, поглядит, целы ли ее детородные органы; Ассунта же пусть пока смиряется с мыслью, что дочь, возможно, никогда не сумеет зачать и выносить дитя.
Ассунта обеими руками держала Стеллину ладошку; слезы вытирать ей было нечем. Чудак этот доктор. Еще кровь с пальцев толком не смыл, а уже про деторождение рассуждает. С одной интонацией произнес две фразы: «Ваша дочь может не пережить эту неделю» и «Если она и выживет, не надейтесь, что она подарит вам внуков». Не подумавши ляпнул? Очерствел на своей работе? Или предвосхитил Ассунтин вопрос насчет фертильности Стеллы, потому что другие матери в похожих случаях об этом спрашивали? Была ли вторая фраза дежурным предупреждением о вероятных последствиях – или констатацией свершившегося факта? Что за жизнь у бездетной женщины и нужна ли она вообще? Насчет себя Ассунта никогда не терзалась – она зачала вскоре после свадьбы, полудетская беременность отмела все сомнения и страхи. Теперь, в операционной, Ассунта размышляла о Стеллином вероятном бесплодии с философским равнодушием. Не будет детей – и ладно. Лишь бы волшебная игла свершила истинное чудо – вернула Стеллу в мир живых, прикрепила, пришила к живым.
Когда доктор ушел, оставив мать и дочь наедине, Ассунта положила ладони на Стеллин живот – по бокам, чтобы не коснуться швов. Живот был раскаленный, словно горшок, который из печи достали. Ладони Ассунты скоро нагрелись, и она их отняла, потрясла ими, чтобы остудить. Так же она действовала в страшную декабрьскую ночь 1918 года, забирая жар из тельца Стеллы Первой.
Стелла очнулась от бабушкиного шепота, однако глаза открывать не стала. Ее тошнило, в животе бушевал огонь. Отгородившись от мира сомкнутыми веками, Стелла думала: хорошо бы так и остаться, ничего больше не видеть. Но до нее долетали запахи. Пахло людьми – резко, ядрено; и мятой – сладко, гнилостно. Так уже было со Стеллой.
– Мята, – прохрипела девочка. – Мята.
Доктор, не питавший особого оптимизма насчет Стеллиных перспектив, счел ее слова бредом. Бабушка Мария была другого мнения.
– Да, мышоночек мой, это мята, – заворковала она.
Внучка говорит о мяте; знает, чем дурной глаз отваживают. Стало быть, выкарабкивается – вот о чем подумала Мария. А доктору обряд наблюдать совсем не обязательно. Мария практически вытолкала его из собственной операционной, причем пользовалась для этого зажженной свечой, выхваченной у доктора из рук.
Осеняя Стеллу мятой и выдыхая тайные слова, Ассунта думала: кто же, кто так сильно ненавидит ее дочь? Второй раз девочка оказывается в смертельной опасности из-за пустячного недосмотра; чье проклятие лежит на ней? Кто ее сглазил? Завистливая соседка своими восклицаниями: «Ах, красотулечка! Ах, умница!»? Вполне возможно. Или зависть обращена на саму Ассунту – не каждой женщине Господь дает такое прелестное, такое здоровенькое дитя?
Да полно – не ревность ли это? Не ревнует ли к Стелле Второй другая девочка – Стелла Первая, ибо с годами ее образ в сердцах матери, тетки и бабки уходит все дальше в тень, затмеваемый новой ясной звездочкой?
Целую неделю после операции доктор не разрешал трогать Стеллу. Боялся, как бы швы не разошлись, как бы внутренние органы не сместились. Стелла останется в Феролето, объявил доктор. Синьора Ассунта может спать здесь же, в операционной, на полу. О дополнительной плате доктор деликатно умолчал.
От Антонио денег не было уже целых три года. Возя языком по зубам, Ассунта гнала мысли о расходах – именно они, эти мысли, этот бедняцкий страх, что не расплатишься, и погубили Стеллу Первую.
Пришлось зарезать одну из докторовых кур и сварить для Стеллы бульон. Курица, понятно, была включена в больничный счет. А бульон Стелла все равно не выпила. Не смогла. Жидкость расплескалась, растеклась по щекам, по подушке. В Стеллином горле будто ком стоял, не давал ходу никакой пище. Говорить у нее получалось, только горло очень саднило. Мария давала внучке мятные листья, чтобы вызвать слюноотделение.
– На тебя свиньи напали, мышоночек, – объяснила Мария.
Стелле помнилось иначе.
– Нет, бабушка. Хрюшки хотели хлеба. У меня был хлеб, они его чуяли.
– Ах ты, глупенькая! В другой раз отдай им хлеб, ладно?
– Не будет другого раза, – вмешалась Ассунта. Насчет свиней она теперь все поняла.
– Я и хотела отдать! – Слова из Стеллиного горла выходили со скрипом. – Да не могла.
– Как это, мышоночек? – Мария гладила девочку по голове – прикосновения к прочим частям тела были невыносимы.
Стелла стала с готовностью объяснять. Хорошо, что у нее хватает слов, хорошо, что мама и бабушка сейчас примут на себя часть ее кошмара.
– Я видела руку, – рассказывала Стелла. – Не мою, а чужую. Она меня держала. Вот так. – Правой ручонкой Стелла стиснула левую, пальчики наложились один на другой и приобрели сходство с виноградной гроздью. Под взглядами Марии и Ассунты «виноградины» багровели, наливаясь синевой пережатых кровеносных сосудов.
Мария остолбенела.
– Чья рука, мышоночек? Кончеттинина?
– Нет, – с уверенностью возразила Стелла. – Четтина стояла с другой стороны. – И, взмахнув левой рукой, она указала налево. Как легко двигались ее руки; какая боль пульсировала в теле! – Это был невидимка.
Мария и Ассунта не проронили ни звука. Жуть какая. Наконец Мария опомнилась, достала четки, и обе женщины стали молиться Пресвятой Деве. Маленькая Четтина, сидя на полу, таращилась на Стеллу; Стелла с высокой кровати глядела вниз, на Четтину. Говорить друг с другом им было незачем, да и не о чем. Стеллу потоптали свиньи, а Четтина поневоле наблюдала эту сцену.
Когда измученная девочка уснула, Ассунта прошептала Марии:
– Едва ли тут сглаз, мама.
Мария не ответила. Держа ладонь на Стеллином лбу, она лишь покривила рот.
На шестой день доктор разрешил забрать Стеллу домой. Судя по всему, инфекции девочка счастливо избежала. Дождавшись, пока доктор перебинтует пациентку, Ассунта вручила ему платочек, в который были увязаны деньги – плата за лечение, за предоставление крова, за курицу. Все до последней лиры. Свиней Ассунта успела продать дядюшке Сальваторе, лавочнику из Феролето; у него в погребе теперь висели, распяленные на крюках, две дополнительные туши. Лечение Стеллы получалось почти даровое, да и собственный прокорм свиньи окупили.
Много мучительных недель, пока на животе формировался и подсыхал струп, Стелла лежала в постели. Тяжкое испытание для подвижного шестилетнего ребенка! Хорошо, что добрая крестная, тетя Розина, все это время занимала Стеллу – обучала всяким женским штучкам вроде вышивания и вязания крючком. Азартная от природы, Стелла и тут увлеклась, поставила себе цель – достичь совершенства. Действительно, ее работа, все эти затейливые кружева, вызывали восхищение старших. Стеллу нахваливали – она расцветала.
На пятой неделе постельного режима, когда Стеллу снимали с кровати лишь для того, чтобы она могла сесть на горшок, выдался нехарактерно теплый февральский день. Стелла убедила маму, что уже достаточно крепка для прогулки на свежем воздухе. Не выпуская руки девочки, Ассунта преодолела сорок ступеней до церковного дворика. Дальше она Стеллу не поведет, и точка. Вместе мать и дочь стояли на высшей точке Иеволи, не в силах говорить от восторга – перед ними был дивный вид. Бледное солнце проглянуло сквозь серые тучи, и далеко внизу оливковую рощу залил нежно-желтый свет. Долина словно сделалась купелью, где свершалось таинство крещения самой Весны.
Триста лет назад именно эта восхитительная панорама вдохновила Стеллиных предков основать Иеволи. С плато, где сейчас высилась церковь, можно было видеть разом два моря – Тирренское справа, Ионическое слева. За мысом, зеленым от вечных лишайников, дымился таинственный Стромболи. Но вот солнце устремилось к горизонту, и с его исчезновением в водах морских скрылись из виду и дымовой столб, и сам Стромболи – остров-вулкан.
Таков был мир Стеллы; в нем она жила и выживала, несмотря на злые силы, тщившиеся ее умертвить. Морщась от боли, Стелла вложила ручонку в Ассунтину ладонь. Мать и дочь начали долгий и опасный спуск к дому, к очагу, где ждал ужин. Однако назавтра они вновь вместе стояли на горе, завороженные закатом.