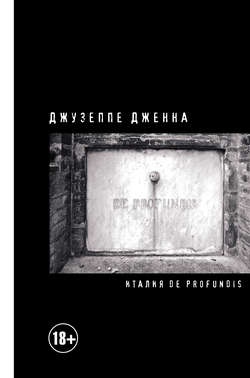Читать книгу Италия De Profundis - Джузеппе Дженна - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Повествование
4. Италия DE PROFUNDIS
ОглавлениеЗначит, стояло непродуктивное непростое лето 2007 года, но вот уже два года, как мне было плохо, два года я не отдыхал, отпуск превращался в короткое и бессмысленное мучение в адской жаре.
Мы приближаемся к месту, где происходит действие рассказа.
Основывается новая партия.
Ледниковый период, за которым не последует ничего нового, пугает. Кажется, итальянцев совсем не волнует психологический климат в стране. Последние двадцать лет их общность может изучать энтомолог, они как термиты.
Эта новая партия заменяет оставшиеся красные крохи, бывшие когда-то Итальянской коммунистической партией, за которую голосовала и которой верила треть жителей страны, взамен же итальянцы получают церковное воспитание, смирительную рубашку бездействия, а то и раскаяния.
Параллельно с моими согражданами, я проваливаюсь в отчаяние другого рода: отчаяние незнакомое. Поначалу это далекое образование где-то внутри, некое холодное мерцание, которое я наблюдаю с ледяным спокойствием. Ледниковые периоды всегда приводят к новому и нежданному: огромные трещины в паковых льдах, провисание драмы, внезапный отступ ледника, таяние глетчерных льдов, образование немыслимых пропастей. Отчаяние растет, ширится, пожирает во мне пространство и кислород.
Итальянцы приближаются к пику идиотизма. Разглагольствуют. Вопят, что их давят налогами. Не одумываются. Не замечают, что трещина ширится, расползается. Горизонт психической дефляции, навстречу которому они несутся в радостном исступлении, приближается. Ни болезненность, ни безропотная покорность, ни негодование не берут больше этот народ, разделившийся на две примитивные касты: богатых и бедных, старающихся поддержать иллюзию благосостояния и щегольнуть несуществующей роскошью, за которой таится бедность, подчиненная ежемесячному ритму выплаты векселей: долгов, набранных ради того, чтобы засветиться на культовых пляжах для ВИПов, назначенных таковыми авторами журнальных статеек, собирающих светские сплетни; и эту низкопробную массу немелованной бумаги с непропечатанными чернилами жадно поглощают две трети жителей нашей страны.
Случаи описи имущества за долги увеличились вдвое.
Над нацией, прекрасно умеющей прятаться в кирпичных тайниках, навис спекулятивный пузырь, страшная опухоль, за десяток лет расползшаяся со стороны Штатов и подобно торнадо всосавшая в себя итальянцев, домовладельцев, первооткрывателей румынских красот в многосемейных домах на Черном и Каспийском морях, обладателей кредитов на тридцать лет, которые еще не в каждом банке возьмешь: слишком много сложных процедур нужно пройти, слишком много бумаг и бумажек собрать, преодолеть столько преград, и все это ради того, чтобы надеть на себя ярмо.
Затраты на мобильную связь в Италии больше, чем в любой другой стране Европы.
Внедорожники, бессмысленные недотрансформеры, рассекают по улицам больших городов.
Падает слово.
Падает образ.
Итальянцы уже не творят. Итальянский кинематограф выдает продукты, а не фильмы. Сентиментальные ленты, созданные по канонам иллюзорных чувств, к которым привыкла нация за последние двадцать лет. Успех таких фильмов у публики катастрофически неизбежен, они становятся обязательными к просмотру быдлом, в которое превратились итальянцы. Все это втюхивается как искусство нашего времени, как репрезентация нашего настоящего. Что правда, только в обратном, чем думает большинство, смысле.
Простейшие сюжеты, инфантильные фабулы продолжают прославлять псевдочувства, псевдолюбовь, за кадром наигрывают заурядные, примитивнейшие звуковые дорожки, придуманные людьми, заслужившими звание «мастеров», плоские роли разыгрываются такими же жалкими актеришками, твердо убежденными, что играют по системе Станиславского, выдавая обязывающие и связывающие заявления от лица персонажа, о котором они потом говорят примерно следующее: «Моя героиня пережила непростой опыт, поначалу она закрыта от мира и не может простить себя и других, но постепенно девушка раскрывается и выясняет, что мир еще может ее удивить. Эта роль многому меня научила», или: «Несколько месяцев я работал над ролью вместе с профессиональным скрипачом, чтобы как можно лучше передать его суть; герой закрыт, но постепенно он вновь открывается жизни и начинает прислушиваться к себе, для меня это был незабываемый опыт», так что все персонажи и все актеры выглядят на одно лицо, в конце концов, и актер – это лишь персонаж. Легкие сентиментальные истории должны заставить зрителя улыбнуться, посмеяться, но смех этот примитивен, стоит лишь волосатому толстяку на лыжах плюхнуться на подъемник и врезать себе по причинному месту, как партер и балконы уже заходятся от смеха.
Авторское кино выдает схемы сюжетов, и всем давно известно, как должны строиться линии главных героев: персонажи обязаны пройти некий путь эмоционального развития, измениться, иначе публика заскучает. Именно так утверждают продюсеры четырнадцати (четырнадцати!) итальянских фильмов, вышедших в прокат в кинотеатрах страны в этом году, и никому из них не докажешь обратного, потому что в любом случае они не станут финансировать другие фильмы, альтернативные, слишком сложные ленты никому не нужны, ведь рисковать зрительским вниманием – непреодолимое табу для любого инвестора.
Итальянская киноиндустрия развалилась. Теперь она выпускает невероятно откровенные истории (в интимном смысле), согласно нравственному канону отупевшей публики, безразлично наблюдающей за спектаклем, – реалистические.
Публика смотрит и верит, что то же самое происходит и по эту сторону киноэкрана. Экран демонстрирует нам то, что другие (народ) хотели бы хотеть. И нет системы, способной проанализировать и изменить эту катастрофическую, запредельную, неостановимую деградацию.
Италия утонула в куче говна.
Те, кто получше, снимают истории поизящней, они виртуозно применяют пластический эффект композиции, показывают сюжеты, бесконечно далекие от правдоподобия и реальности, довольствуясь финалом, который робкими шажками, неуверенным эхом отсылает к дикому крику эмоций, потонувшему в пакетике с бесполезными карамельками. Другие причаливают к американским берегам. Лепят истории из жизни необуржуа, в которых так легко узнаются буржуа старой закваски, еще не успевшие осознать, что перестали быть таковыми, что перешли из высшей касты в касту пониже, теперь, когда буржуазия превратилась в не что иное, как в «людей умственного труда», которые то сидят без работы, то зарабатывают копейки, но в том или ином случае находятся за пределами возможности заработать.
Когда над страной раздувался спекулятивный web-пузырь, экс-буржуа, подняв загорелые лица к УФ-лучам, почувствовав себя в игре и готовясь совершить рывок и перепрыгнуть в высшую касту, до десяти вечера сидели в фирмах dot com, встречались с бизнес-партнерами и заключали соглашения о сотрудничестве, обсуждали бюджет на рекламу, судачили про стучащих по клавишам в отделе маркетинга одиноких девиц, застрявших на фазе «соблазни самца», что, впрочем, никогда не перерастало в хоть сколько-нибудь долгие отношения, и держались больших городов, куда дошли и интернетный boom, и junk food, подаваемая в lounge bar между изматывающими встречами в якобы свободное время, и говорили, говорили, говорили, в основном о работе, но между делом умудрялись выразить и свое видение мира, грубое, упрощенное, построенное на идее заработка и нескончаемой, чрезмерной физической нагрузки, и выдавали вереницы названий лыжных курортов, где можно встать на snowboard, пока Linux борется с Гейтсом, хотя у первого и нет преимуществ второго.
Но dot com все позакрывались со скоростью ветра, не успели мы нажать кнопку хронометра.
Повсюду: перемены.
Анализ финансового состояния, проведенный на основе экономических производных, совершенно не принимает во внимание фьючерсы и бонды, и, как следствие, бесконечно далек от реальной картины.
Я говорю все, как есть, не заботясь о стиле, отрицая притворство. Я не строю текст. Не обманывайтесь, это не выдумка, все это – реальная история.
Банковские слияния происходят, но банковская система не меняется.
Re-engeneering: сокращение двойных должностей, образовавшихся за счет слияния, а затем сокращение оставшихся и перераспределение обязанностей так, что один человек выполняет несколько функций, пока из-за переработки не заработает невроз.
Поверхностные доводы, трещащие по швам от многочисленных проблем, от бесчисленных окошек, открытых в браузере Windows. Менеджеры день и ночь куют новые слайды: потоки данных текут ручьем, а Power-point продолжает верно служить для создания презентаций, хотя проще было бы использовать старые (перерабатывают же мусор): соглашения, контракты, суммы – по сути, нам вечно втюхивают одно и то же.
Крупнейшая итальянская компания – вроде тайной группировки, нелегально подслушивающей разговоры и взаимодействующей с секретными службами. Ее многократно перекупали с тех самых пор, как решено было дозволить ее приватизацию, и теперь она стала абсолютным сетевым монополистом. Псевдоправые и псевдолевые правительства боролись за право перепродать компанию упорным покупателям, которые взяли ее с долгами, с несуществующей прибылью, в обход уплаты налогов, благодаря тому, что сама система компании была устроена как матрешка.
Телевидение развалилось и развратилось. Нам показывают якобы голодных знаменитостей, которые сидят на несуществующих островах и играют на гавайских гитарах. Актер, прославившийся ролью Сандокана, выходит в финал и остается на острове с футболистом-бомбардиром, участвовавшем в чемпионате мира 1990 года, после которого сборная Италии покатилась в бездну. Они философствуют, глядя на неизменное зеленоватое море. Философствуют, прямо как американские комики из сериала пятидесятых.
Щелкать каналами – любимое времяпровождение американцев, передача с самым высоким рейтингом просмотра, программа ни о чем.
Общество, порождающее телеформаты, изрыгает программу за программой, поднимающую «уровень общей культуры», но ни одна из них не подразумевает, что смотрящий умеет думать или способен задавать вопросы: достаточно напялить поварской колпак и распевать григорианские псалмы, уметь показывать простейшие фокусы и выполнять примитивные трюки, чтобы выйти в финал, который, помимо всего, является единственным настоящим (а значит, первым) испытанием за всю программу и заключается в том, чтобы угадать, что за ВИП-выродки сидят сейчас в кабине посреди разноцветного моря, пока бесполезные девочки, одетые, как швейцарцы на Карибах, выносят на сцену дурацкие подсказки, а ведущий скептически хихикает, очевидно не веря в свою же показуху, а красный лягушонок Габиббо, совесть нации, блистая генуэзским говором, острит направо и налево.
Это смешно?
Страна хочет смеяться беззаботным смехом. «Коррида», программа, которая существует уже лет пятьдесят, а то и больше, собирает у экранов самое большое количество зрителей зомбоящика. Год от года повторяются все те же приемы, а плешивый ведущий с опухшим лицом презрительно, молча или насмешливо смотрит на выступления дилетантов.
Все это родилось под Миланом, в Брианце. Подобный формат зародился в Леньяно, в студии частного канала Антенна Тре при поддержке Ренцо Виллы, который в ночные часы вел телемагазин, где зачитывал, опуская и метр, и рифму, далеко не самые культовые стихи в истории – «Если» Редьярда Киплинга, выгравированные на золотом листе. Предполагалось, что жители Брианцы купят лист и повесят на стенку; такой формат зародился в Лиссоне, где много мебельных фабрик, он зародился в Бреше, в Лумеззане, где производят болты, где дельцы продолжают толстеть, наживаясь на дешевых румынских рабочих из Тимишоары (впрочем, теперь они молят о помощи, потому что доход очень упал с тех самых пор, как из Азии поступают огромные партии дешевых подделок).
Все боятся китайцев.
Все боятся китайцев, но продают свое дело китайцам, потому что китайцы приезжают не одни: с ними едет китайский менеджер с отвисшими скулами, который на автомате открывает дипломат, где лежат ровные пачки денег, сумма которых в три раза превышает стоимость бизнеса, после чего итальянцы, разумеется, продают бизнес.
За шесть месяцев 2007 года в бюджет удалось вернуть 5,4 миллиарда евро недовыплаченных налогов, от которых благополучно уходили люди из высшей касты.
Борьба классов прекратилась, борьба каст раскатилась до самого горизонта несчастного сапога, захваченного монстрами, задушенного мафией, заваленного незаконными отходами, заселенного болтливыми муравьями, которые сидят в грязи и грезят о чистоте, меж тем как голова их кристально чиста вследствие отсутствия мозга.
Политическая жизнь протекает тихо, дебатов не было и нет. Любая дискуссия – иллюзия. Репрезентативность – фундаментальный механизм демократической системы – сведена на нет полным отсутствием понятия об эффективности, невозможностью реального действия со стороны абсолютного большинства избирателей. Демократия обернулась демагогией. – Политическая элита – депутаты, сенаторы, члены различных партий, ограничиваются тем, что исполняют распоряжения, поступившие из-за океана, от Международного валютного фонда, от американской и английской элиты, и прикрываются тем, что находятся под защитой (эта пагубная идея была разработана в Брюсселе и закреплена в Маастрихтском договоре, после чего разлетелась по двадцати четырем странам Европы).
Для политических маневров не осталось места.
Социологи говорят о «жидком обществе», но нет, оно вапорическое, это просто пар.
Термитник.
Левые и правые идеи, разработанные оппозицией за вторую половину двадцатого века с учетом международной ситуации испарились, но на смену им ничего не пришло, у нас нет ни одной идеологической парадигмы. Сегодня даже существование какой-нибудь такой парадигмы (самой рабочей моделью в этом смысле можно считать оппозицию центра и периферии, борьбу каст) не смогло бы разжечь огня, который повлек бы за собой революцию или любые другие перемены. Силуэты-фикции чередуются на так называемой «политической сцене», если говорить правильным языком; их лицемерные речи направлены на рост количества избирателей, который происходит в результате неправдоподобных и жалких в своей изобретательности обещаний, вроде снижения налогов (которые, вообще-то, являются залогом нормальной жизни и организационной деятельности любого Государства), фантастического роста рабочих мест (то есть возможности достигнуть уровня прожиточного минимума), повышения контроля за безопасностью (то есть законного оправдания насилия против тех, кто не входит в общепринятые касты, не достиг уровня прожиточного минимума низшей из каст – против мигрантов и жителей стран, не входящих в Евросоюз, и, в частности, против микропреступников и антагонистов законности, которые, к счастью, всегда существовали и будут существовать).
Словно персонажи фантастических фильмов, политики притворяются, что, в зависимости от пожеланий электората, они отличаются друг от друга; они рассыпаются в туманных, но броских и манящих обещаниях – проповедуют непонятные ценности, которые предпочитают не называть, спорят о роли «семьи», в то время как семья давно перестала быть центральным элементом общества, дерутся, когда речь заходит о страданиях неизлечимо больных, воюют за ничего не стоящие бессмысленные принципы.
Коммунистическая партия становится силой, стремящейся увязать роль, которую исторически играли левые течения, с популярностью христианских демократов.
Настоящей сценой политической игры стала экономика, в том смысле, что это единственная отрасль, где можно говорить о политическом невмешательстве в экономическую сферу. Отсюда разливается река приватизаций, произведенных а-ля итальяно, как теперь говорят. Повсюду фаворитизм, идет копеечная распродажа народного достояния. Пир во время чумы.
Но это еще цветочки. В области знания, особенно гуманитарного, у нас полная катастрофа. Посещение средней и высшей школы превратилось в бессмысленный пустой ритуал, напоминающий барокамеру бесконечного ожидания. Теперь количество страниц, которые нужно прочесть для подготовки к экзамену, ограничено сверху: законодательное оправдание коллективного невежества. Кусачки, невидимые и мощные, которыми нам перерезали нить памяти – связь между прошлым и будущим, отрезали новые поколения от истории. Технологии доросли до уровня экзистенциальной метафизики. Обучение – иллюзия, подготавливающая к иллюзии следующего уровня: вступлению в трудовую жизнь. Работа – тоже иллюзия, и все благодаря законодательству ad hoc[5], навязанному Международным валютным фондом развитым странам и тем, которые мечтают войти в узкий круг серьезно индустриализированных наций. Результат налицо: к августу 2007 года 45,4 % населения работают по временному трудовому договору, а 42,6 % все еще наслаждаются долгосрочным контрактом.
Временная работа становится нормой, и по мере ее закрепления растет страх перед будущим, буржуазный, по сути, страх: народ жаждет стабильности, измеряемой наличием роскоши и удобств, к которым нация не имела привычки на протяжении всей своей истории, если не брать в расчет последние тридцать лет – с того самого времени, когда политики, согласно программе, у нас больше нет. Эмоциональное напряжение, возникшее вследствие этих факторов, – появления нового бедного класса, притворяющегося обеспеченным, и ощущения неуверенности, ставшего следствием изменений на рынке труда, породило глубокий психический и экзистенциальный кризис. В Италии потребляют столько антидепрессантов, сколько не потребляют ни в одной другой европейской стране (начиная с бензодиазепина и заканчивая трициклическими препаратами нового поколения). Именно это и происходит, когда культивируется невежество и, как следствие, возникает всеобщее равнодушие к культуре как к сознательному средству самолечения и восстановления, – парадигма психического здоровья претерпевает существенные изменения. Наступает бум психотерапии, но народ предпочитает лечиться быстро, что совершенно бесполезно, ибо такое лечение борется с симптомами, а не с болезнью. Философы открывают центры психологии, где твердят, что пациент должен излечить себя сам, – труд бессмысленный и бесполезный.
54 % жителей Милана одиноки.
Потолок достигнут, пик псевдобогатства страны преодолен и остался в прошлом, пора готовиться к тому, что пузырь сдуется: снижению покупательной способности, отказу от желаний – что само по себе глубокая рана, которую рынок обоюдоострым ножом наносит себе под ребра. На ум приходит змея, кусающаяся себя за хвост, хвост уже откусившая и целящая в голову. Но голову себе не откусишь. У каждой страны огромные долги, Штаты же могут похвастаться самым огромным внутренним и внешним долгом, и все же эта страна сидит на троне, пока не объявится император. Рынок, за задником которого просвечивает колоссальный и повсеместный долг.
Публичный долг Италии уже взметнулся до звезд, так что согласно нашим СМИ нужно принимать «резкие и решительные меры», однако все замалчивают тот факт, что любого рода долг – виртуален в масштабе мировых рынков. Внешний долг – лишь символическая абстракция, за которой таится возможность конфликта. Рынок выражает и навязывает конфликты, на вид не такие жесткие, но если заглянуть за задник, то можно увидеть массу позорных и жестоких конфликтов, разворачивающихся во вселенском масштабе, без конца и края: garbage humanity – человечество-мусор повсеместно сметается в помойку, и никто не слышит призывов о помощи. Триста тысяч погибших в результате цунами в Индийском океане улетучились из памяти общества уже три года спустя, и пока в Индонезии, Шри-Ланке и других странах бушевала стихия, итальянцы разворачивали рождественские подарки и толпились в аэропортах, чтобы вылететь на отдых куда-нибудь на Восток, где разворачивалась страшная драма, ставшая следствием климатических изменений. Итальянцы плавали в теплых морях, воды которых несли в глубине тысячи разбухших трупов.
Итальянцы продемонстрировали максимум лицемерия при известии о кончине понтифика Иоанна Павла II. В последние годы жизни он появлялся на людях, разбитый болезнью Паркинсона, обессиленный и беспомощный до такой степени, что молитва Ангелус, которую он читал у папского окна, звучала как сдавленный хрип, и миллионы итальянцев следили за этой агонией, затаив дыхание. А ведь эти люди считают себя католиками! Лишь стоило ему преставиться, как они развернули настоящую вакханалию, сметенную сильнейшим и символичнейшим из ветров. Отпевал его кардинал, которому предстояло сменить почившего. И вот последний Папа, которому вот-вот пойдет девятый десяток и который уже пережил два инсульта, теперь пытается вернуться к истинной христианской вере, а на него оказывает давление курия, которая, хотя и находится в авангарде социальной доктрины Церкви, перечеркнувшей метафизическую суть католической веры, теперь вынуждена опираться на политический аппарат, поскольку общество, а значит, и все верующие, совсем вышло из-под контроля. И эта Церковь, являющаяся невестой Христовой и несущая христианскую весть с такой дутой самоуверенностью, каковой не бывало за всю двухтысячелетнюю историю, сталкивается сегодня со всеми негативными последствиями выбора, совершенного сто лет назад. Лишь небольшая часть верующих читала и знает Библию. Вера свелась к эмоции, иначе говоря, она выливается в иллюзию чувства и всегда воплощается в форме просьбы: молитва свелась к просьбе и перестала быть метафизической практикой, техникой погружения в себя, которая позволяет человеку ощутить свою суть. Католицизм превратился в протестантизм под внимательным взглядом пораженных болезнью Паркинсона представителей церковной иерархии. В существование ада и чистилища больше никто не верит. Дьявол сжался до персонажа народных сказок, в самой же церкви высшие иерархи никакой доктрины в этом отношении нам не предлагают. Скепсис и ирония запускают реакцию: на нынешнем этапе церковь находится в авангарде реакционных сил. Эта реакция отзывается в сфере политики и призывает вернуться к системе ценностей тех общественных формаций, которые история уже переживала, переваривала и изрыгала. Из-за этого верующие истово исполняют обряды, но при этом остаются бесконечно далеки от внутренней метафизической работы. Церковь превратилась в ископаемую раковину, давно покинутую Духом Святым. Церковь ничего больше не предлагает воображению, она не вдохновляет, не дарит ни мечты, ни тайны, ни страха. Бог больше не завораживает. Теперь вера в Господа Бога – вопрос исключительно личного восприятия: каждый как хочет, так его и представляет.
И лишь потусторонний мир, где, возможно, существуют наши мертвые родственники, жизнь за пределами земли и параллельные измерения, лишь эти миражи, заслоняющие реальность, вызывают сегодня у людей общие чувства и являются формами веры, которые можно назвать универсальными. Теперь Господь ни у кого не вызывает трепета, а вот мысль о том, что есть жизнь после смерти – да.
Гостия стала символом, и не более, теперь почти никто не верит, что это плоть Христова.
Чтение и трактовка священных текстов никому больше не интересны. И хотя никто не читает Библию, верующие продолжают с тупым упорством отстаивать право личной интерпретации догм христианской веры и Священного Писания, которое они ни разу не открывали. А о том, что происходит после смерти, кто будет избран и кто удостоится сидеть одесную Отца, они имеют весьма смутное представление.
И пусть не обманывает вас внешнее величие католицизма: гигантской является лишь форма.
Узкий круг интеллектуалов (которых никто не слушает – и правильно делает) справедливо определяет своеобразие ситуации, в которой оказалась страна, как упадок. Анализ, предлагаемый интеллектуалами, скуп: большинство из них не располагают научным инструментарием, дабы проанализировать происходящее не известно о том, как работает человеческий мозг, им незнакомы новейшие достижения психологии, макро- и микрофизики, квантовой физики, они понятия не имеют о теории суперструн, об универсальной голографической парадигме, об астрономии, химии, геополитике, военной разведке, работе разведслужб и военных технологиях, изучении климата, всеобщей истории планеты, вычислительной математике и логике, искусственном интеллекте, теории потребления, неосоциологии, альтернативной истории современности, фармакологии, физиатрии, иммунологии, аэронавтике, изучении космоса, – анализ, проведенный этими охваченными апокалиптическим пессимизмом интеллектуалами, отставшими от современного мира и недостойными своих предшественников, показывает, что наша страна является безнадежно отсталой. Они делают неприемлемые заявления. Они настолько недалеки, что противны любому, кто знаком с крохами реальности, упакованной в сплошную иллюзию. Их анализ строится на недопонятых пророчествах философов пятидесятых. Это группка вопиющих в пустыне, но общество, которое они, пребывая в бессознательном платоническом сне, пытаются направить на неведомый путь истинных ценностей, не слышит их вопль. Я хочу сказать, что итальянская псевдоинтеллектуальная элита, наряду с церковью, оказывается одним из самых реакционных элементов, существующих сегодня в Италии.
Неслучайно именно в этой сфере общественной жизни четко проявляется то, чего еще не было никогда: передача знаний нарушена, линия преемственности разорвана, что скрывает еще один вид борьбы, не перерастающей в открытое столкновение, а, наоборот, сдерживаемой за счет психической и эмоциональной жизни большой части страны: эта борьба поколений, которая заморожена вот уже лет тридцать, на самом деле касается и производительной сферы, и мира фиктивной политической представительности, и, в широком смысле, экзистенциального измерения. Точка пересечения конфликтов каст тлеет, но не разгорается, конфликт поколений сдерживается заслоном сжатой энергии, а значит, не находит себе выражения. Общество стремится к иллюзорным горизонтам желаемого – и в то же время уже насытилось им, яркой иллюстрацией этого насыщения – пузырь рекламного рынка. Реклама, по сути, уже не контролирует спрос и не прививает желания покупать, именно об этом свидетельствуют не обнародованные и не известные публике внутренние исследования медийных компаний. Таким образом, общество оказывается в клещах: сохраняется высокий уровень социального отчуждения и показной индивидуализм, что препятствует сплочению масс и тех движущих сил, которые способны изменить ситуацию, в том числе и насильственным путем, и запустить процесс обновления социальных классов.
Итальянцы заморозили собственную историю раз и навсегда, ведь история Италии – это история трагедии, явных и скрытых гражданских войн, лицемерия и трансформизма, ненависти, которая подспудно зрела, а потом так или иначе выходила наружу. Начиная с движения Сопротивления фашизму и до свинцовых семидесятых не было дано ни одной окончательной оценки истории, она представляется как сумма фактов или фокусируется вокруг обсуждаемых персонажей, фиксирует заговоры и скандалы, которые потрясли правящие классы каждой из стран, – но не Италии.
Поскольку историю не рассказывают объективно, но держат в виде замороженных штампов – это не позволяет развернуться естественному процессу ее переваривания, который жизненно необходим обществу для того, чтобы оно развивалось и двигалось перед.
Средний итальянец, суждения которого об истории покрыты коркой льда, замер на том, что он все осуждает, опираясь на природный якобизм, антропологический и легалистский микрофашизм; он лицемерно, с необычайной легкостью переходит из одного лагеря в другой и постоянно пересматривает то немногое, что мы точно знаем об истории страны, но при этом тщательно обходит стороной проблемные места, не пытаясь развязать запутанные узлы человеческих отношений, распутав которые мы могли бы узнать темные и неведомые главы нашей истории. Постоянное присутствие темных мест в памяти страны – один из тех главных элементов, которые питают правящий класс, сформировавшийся в свинцовые годы, когда терроризм в Италии достиг таких масштабов, каких не достигал никогда ни в одной промышленно развитой стране. Незнание собственной истории – оружие, которое никто не пытается скрыть и с помощью которого правящий класс вынуждает последующее поколение жить в состоянии неуверенности и в будущем, и в прошлом; оно попадает в ловушку настоящего, поскольку, не умея оценить прошлое, постоянно пытается найти некий символ, на котором сможет выместить свои агрессивные порывы, и этого гнева тем больше, чем недостойнее поведение тех, кто цензурировал прошлое и последовавшее за ним будущее, и осудил его, не имея на руках документов, не зная ни личных историй, ни реальных фактов, хотя поколение, находящееся сегодня у власти, жило в то самое время и в том конкретном обществе, и разве что за восьмидесятые идеологический и экзистенциальный центр тяжести немного сместился.
Борьба с коллективным помешательством и расширение территории свободы должны бы являться основой любого социального организма, вступающего в политический и/или психический контакт с народом. Исходя из вышеперечисленных объективных фактов, можно утверждать, что в Италии нынче происходит не упадок, а как раз наоборот, – подъем. Сегодня Италия находится на первом месте среди развитых стран по скорости антропологической трансформации, явившейся следствием того, что можно определить как «западная болезнь». Болезнь эта заключается в самоуничтожении человеческого в человеке посредством активного усвоения поведенческой стратегии лицемерия; этот процесс является неотвратимым, ибо лицемерие (психическое, эмоциональное, политическое, социальное) в человеке достигает такой квинтэссенции, что одно накладывается на другое геологическими слоями.
Человеческое начало разрушается.
Это приводит к тому, что конец западной цивилизации совпадает по времени с концом гуманизма, поскольку гуманизм является последним источником, способным поддерживать человеческое в человеке. Достоверность человеческого в человеке, которое у У. С. Берроуза почти гностически признается априори (что справедливо для любой метафизики), имеет своё крайнее фиктивное воплощение: человеческое – это вирус, проявляющийся в нечеловеческом. У античеловека нет будущего. Он несет в себе отблеск скорого конца человечества, боль, которую не облегчат никакие роды. Античеловек жаждет исчезновения человека, он алчет победы над духом, уничтожая познание и самопознание.
Не считая американцев, итальянцы – самая странная нация на планете. В каком-то смысле, итальянцы еще более странные, чем американцы: у последних нет истории, которую можно забыть и проигнорировать, они погрязли в лицемерном инфантилизме, особенно очевидном в моменты, когда задевают предметы их гордости, больше похожей на спесь, взять хотя бы атаки 11 сентября на Всемирный торговый центр и Пентагон или смехотворный (по сравнению со многими другими) ураган Катрина. Само собой, такой инфантилизм представляет собой лицемерие, в каком-то смысле вполне искреннее. Нельзя сказать, что Штатам свойственно коллективное помешательство: этот народ всегда был «не от мира сего», вся история Америки – история одного большого безумия. Случай Италии прямо противоположен: здесь мы видим нацию, говорящую на древнейшем из существующих языков, ведь ни один другой язык современного мира не обладает такой долгой культурной историей в области гуманитарной мысли. В Италии отстранение от языка и воображения идет параллельно отсечению истории и развитию особого вида общности, образовавшейся посредством индукции и осмоса в постимперский период, который тянулся больше тысячи лет: с распада Римской империи до Второй мировой войны, по окончании которой ненавязчивый рыночный колониализм полностью изменил те параметры, которые считались традиционными, но так и не выкристаллизовались в обычаи.
Все вышесказанное донельзя банально. Это даже не анализ фактов, а лишь их констатация. Все настолько очевидно, что даже нечего возразить.
Вот почему в описании «итальянской ситуации» полностью отсутствует какой бы то ни было авторский стиль: стиль – это ведь тоже фикция, выполняющая определенную функцию в системе, предполагающей, что даже обычный рассказ должен вписываться в рамки определенного стилистического круга, достаточно широкого, но все же ограниченного и оснащенного определенными точками, призванными вызывать интерес (писатель протягивает фиктивную нить, дабы ложным образом избавить читателя от скуки и страха, и оба боятся, что нить вот-вот лопнет, что прекрасно отражает все современное общество, бегущее страдания и его поучительной роли, так что любое фикшн-повествование в итоге способствует этой практике: отчуждению человека от человеческого.
Малейшая умственная нагрузка – недопустима, все должно быть разбавлено и соответствовать приемлемой мере сложности.
Многозначность, мешающая удобоваримости прочтения, искореняется напрочь.
Все, что предполагает присутствие загадочного, необъяснимого, трудного, вдумчивого, – на практике лишено возможности существования. Таким образом, искусство априори уничтожается, ультимативное в политическом плане и пенультимативное в отношении исключительного метафизического сознания искусство, снова и снова ставящее вопрос: «Кто я?» – вопрос без ответа.
Наивно думать, что настоящее будет длиться вечность, а сегодняшний итальянец считает именно так. Трещина растет. Дефляционный горизонт – смесительная камера необратимой трансформации, квантовый скачок, перечеркивающий существующие парадигмы.
Я отчаянно колочу молотком по сталагмиту безумного повествования, леплю его статую. Бью, откалываю куски, продвигаясь по темной и влажной расщелине собственного отчаяния.
Текст – это акт чистой любви, и здесь ее много, как никогда.
Вместо того чтобы предложить вам описание «итальянской действительности», я мог бы изобразить ее в лицах, написать роман, от которого за версту несло бы помойной ямой (впрочем, я уже это сделал). Но какой смысл обращаться к фиктивной романной действительности? Что изменится, перенесись действие в плоскость вымышленной реальности, разверни я потоки выдуманных фактов и чувств? Что изменится, сведи я роман к вымышленному, а самого себя к произвольной маске («я, Джузеппе Дженна»), замени неопровержимые факты придуманными картинками? – Разница в том, что данный жанр оставляет возможность «предполагаемой правды», зарождает сомнение, подразумевает наличие стиля, оставляет надежду на существование некоего тайного знания, возможно, недораскрытого автором.
Но правда в том, что жанр романа более не соответствует нуждам нарратива. Оно являет собой трансцендентный канал и раскрывается во всю мощь, когда интеллектуальная элита отсылает нас к традиции, которая уже сама по себе – эффективный инструмент интерпретации реальности. Но теперь все изменилось, от романа осталась лишь его алгебраическая составляющая: если он прост, как уравнение, если понятен, как дважды два, – лишь тогда его принимают и вписывают в арсенал человеческого самоотчуждения.
И все же, какие жанры сегодня востребованы?
Вот главная проблема, с которой сталкивается в нашу эпоху поэзия. Потому что между поэзией и прозой существует субстанциональная связь, преемственность: поэзия – текст в чистом виде, сотканный звучанием слова, течение ритма и нашим воображением; и оказывается, что если роман стал идеальным инструментом в арсенале реакционера, то поэзия сама реакционна уже по сути своей: она не способна обновить традицию и замкнулась в ее ограниченной плоскости этой традиции, а все потому, что метафизическая практика в нашу эпоху никому не нужна. Прошедший век в западном мире стал ареной подпольной борьбы мощнейших сил: той, которая отрицает метафизический опыт как мировую практику – разве что, увековечивая его в метафизическом мышлении (однако, каждое метафизическое рассуждение является, по сути, антиметафизическим, поскольку метафизическая практика стремится к трансцедентности суждения), и той, что утверждает возможность светской метафизической практики здесь и сейчас. В общем и целом, похоже, что Запад выбрал первый вариант, и прежде всего это касается Италии, поскольку, оставаясь западной и оставаясь Италией, она оказывается идеальной почвой для метафизики.
Метафизика – это непрестанный поиск ответа на один и тот же вопрос: «Кто я?». Это осознание незнания, умение начисто отказаться от любых мыслимых и немыслимых форм, добиваться несуществующего ответа, исповедовать позицию отказа от форм внешних ради единственной формы – внутренней.
Предвестники будущего канона: они существуют. Канон этот взрастет из непонятых тексты прошлого: от «Дзибальдоне» Леопарди до «Нефти» Пазолини, от «Бесплодной земли» Элиота до «Фисгармонии» Уоллеса Стивенса, от Целана и Миллера до Берроуза. И это даже не авангард, это просто трудные, ни на что не похожие тексты, сложность которых толкает читателя совершить над собою усилие, заставить мозг работать, и таким образом эта мысленная работа по сплаву идей и мировосприятий выходит за пределы литературы и становится актом самопознания.
На первый взгляд, эти тексты неудобоваримы, путаны, непонятны, синтаксически сбивчивы.
Их ритмы напоминают древний бой барабанов.
Древние жесты под сенью небоскребов из стекла и бетона.
Пульсирует древний мозг.
Откуда тянется эта страшная Тень?
Вот почему для уже описанной «итальянской сцены» я могу предложить «replay» – новый вариант, сделанный по законам чистейшего нарратива. Он накроет волной, он встретит сопротивление как непонятный и сложный, волна все спутает и смоет, прояснив сказанное куда глубже, яснее и ощутимее.
Replay – это новая форма трагедии, новый тип риторики: щедрой и предельно откровенной. Теперь автор обретает право на ошибку, неточности, свободен допускать ляпы, а текст может выглядеть даже смешным. Мой нарратив не похож на уравнение, а, стало быть, человечен. Как слепец, автор движется в темноте, хотя солнце светит вовсю. Новый вариант настоящий, а потому может быть отвергнут: в прошлом найдется немало примеров, когда любая новая форма встречала противодействие.
Итак, представляю стилистически оформленную, но по-прежнему правдивую версию «итальянской сцены». Поскольку итальянский вопрос уже достиг крайней остроты, то и в этой сцене все будет до крайности обострено. Поскольку Италия – самое скучное место на земле, то и эта сцена будет воплощением скуки.
ВНИМАНИЕ
Со следующей сроки и вплоть до следующей главы, читателю будет безумно скучно. Чтобы читатель не извелся от скуки, горячо советую перевернуть несколько страниц и стразу взяться за следующую главу, хоть и не обещаю, что она будет менее скучной. Итак, все, что последует ниже, настолько скучно, насколько только можно себе представить, а кроме того, этот скучнейший эпизод явно снизит количество продаж этого романа. Так что скорей листайте вперед, советую от души.
Смеясь над Духовниками, жестокую правду пою – откуда тянется страшная, горящая золотом Тень? – бредут по сухим ветвям, хрустит под ногами хворост, томятся по воздуху жаждой, чума в эфире парит, трепещет дрожащее тело – голубоглазая собака виляет хвостом, гипс ила сковал ее лапы – цепочка шагает гуськом и тянет свинцовые гири – огромные бурдюки, в них словно налили металла, но в них только воздух чумной – гуськом к Королеве своей, плодит она белые яйца, у лона застывший самец, он станет ее пропитанием – о юные тени, глаза ваши мертвенно-бледны, Вы чаете Славы, Войны – лепечете странные звуки, потухшее древнее солнце палит бесплодную землю – ползете по влажной пещере, в глуби ее тлеет скала, скала из вулкановой лавы – звон голову разрывает и отдается от стен – но силитесь не замечать – он тянется из глубины, тяжелый, радиационный – накатит смертельной волной святая великая Церковь, волной ультразвука нахлынет, а он подтолкнет воображенье в далекие, недоступные, безбрежные закоулки мыслительной вселенной – чернота, темнота, блеклая чернь под раскаленными свинцовыми облаками, нависшими сводом отравленных сталактитов – вперед в поисках пищи для Королевы движутся муравьи, Королева-матка плодит белесые овальные яйца, лопающиеся, едва выскользнув из пульсирующего гладкого блестящего лона существа, что поглощает самца, самец выделяет в нее свою живородную жидкость – климат сменился, сменились столы, полюса – девочка говорит, что любит собаку за голубые глаза, собака больна и боится ступить на раскаленную, подернутую дымкой скалу – нагой, волосатый мужчина с померкнувшими глазами стегает хлыстом другого, несчастного и худого, что слаб, изможден и безмолвен, надломаны ребра его и глаза провалились, а из раскрытого рта сыпется струйка песка – имя мужчины, держащего хлыст, – Италия – имя несчастного, над которым заносится хлыст, – Италия – мужчина, держащий хлыст, и сам подгоняем хлыстом, – сверкает в воздухе бич, зажатый в черненькой лапке – Королева заносит его, подстегивая мужчину, но тот не чувствует хлыст, что хлещет его по спине, истекающей кровью, – он продолжает хлестать и смотрит на мокрую красную спину бичуемого – но имя матки уже не Италия – и вот, после многих, никем не подсчитанных тысячелетий, после смены сот поколений, хлещущий несчастного человек вдруг чувствует боль, чувствует, что ткань тела поддалась и лопнула под бичом – он понимает, что время смерти пришло в тот самый миг, когда она на пороге – но Джордано Бруно, точно буддийский монах, невидимый за свалкой отходов, сгорел уже, точно свеча, и пока он горел, никто не замечал, и глаза его таяли словно воск или гумор, а почерневшее тело сожрали жадные муравьи, вечно ищущие, что принести своей Матке, – сожрали и изрыгнули останки, склеив их слюной – зеленоватой жижей, скапливающейся в бурдюке, наполненном чумным эфиром; человеческие муравьи с вывернутыми конечностями изрыгают зеленую жижу – Королева получает и слизывает ее, спариваясь с новым самцом, приникшим к пульсирующему блестящему лону – из него появляются яйца – одно за другим, но спаривание продолжается – банды неуловимых террористов, одетых в обтягивающие черные водолазки, вторгаются в страну, стреляя из автоматов – их пули сотканы из картинок, вынести которые не в силах никто – осторожно, одна такая – конец – картинки эти – занесенные сжатые кулаки, синеватые комбинезоны рабочих, трудящихся на старых заводах, снопы колосьев, вздымающихся на полях, где бегают усталые счастливые дети – неуловимые призраки-террористы совершают набег на поля, расстреливая людей из закупленных в Африке калашниковых, вынутых из несуществующих деревянных ящиков и выкупленных за несуществующие американские доллары несуществующим Иди Амином Дадой через несуществующих посредников, смеющихся и бросающих в дорожную пыль далеких лесов окурки – стреляют они пулями, несущими смерть, устраивают набеги, внезапно дают очередь в воздух – очередь из тысячи тысяч невыносимых картинок: вижу убитых в Первой мировой и захороненных на холме в Редипулье – лежат они, склонив головы и непристойно выставив ягодицы, – тысячи тысяч партизан-призраков – в каждой долине по роте – мертвые, мертвые донельзя, позабытые – наводняют чужие рты, рты человекомуравьев, говорящих на таком итальянском, который не похож на итальянский даже случайно – Леонардо Да Винчи перегрызает горло свое, примостившись на склоне, спрятанном в идеальной по размерам и формам декорации Облачной горы, и пока кровь хлещет из распоротой глотки, лишенной голосовых связок, он умудряется прохрипеть последние слова: «Наблюдай и старайся изображать каждую вещь верной натуре ее, не пренебрегай изученьем, как делают стяжатели, если хочешь познать ее», – от Линкея ничто не могло укрыться даже под землей и за облаками – огромный синюшный священник с трудом переваливается через тельца печальных детей, тянущих ручки к его гениталиям – этот огромный, посиневший от натуги священник прикрывает сутаной лиловые детские лица, прижавшиеся к его ляжкам в поисках эрегированной плоти, точно плод к пуповине, – священник держит в левой руке распахнутую книгу и бормочет невнятно откровения Иоанна, он бормочет на невнятной латыни и благословляет обрученных – обрученным, как правило, велено пройти испытание – их разлучают и помещают в раздельные камеры, где на них надеваются испанские сапожки или их сажают на кол и наливают в рот морской воды – и так до тех пор, пока грешники не очистятся и не раскаются и никогда больше не сотворят греха, они творят это, дабы свершился мейозис – им торжественно вручается тампакс в форме распятия – невеста вставляет его во влагалище прежде, чем свершится венчание, а жених – в анальное отверстие, как можно глубже, и лишь затем позволено вершить церемонию – во время церемонии призраки-террористы врываются в открытую церковь и прежде, чем невеста ответит «да», убивают священника из несуществующих призрачных автоматов очередью образов-пуль – один из образов – Неопалимая Купина, твердящая: «Я тот, кто Я есть», и священник сдувается, точно воздушный шарик, и из нутра его вырываются мелкие серые гномы с огромными головами, гномы-макроцефалы, издающие протестные вопли, ибо им не нравится время, в которое они попали и из которого явились призраки-террористы – но гномы падают под градом невыносимых образов-пуль – кучи пакетов из-под соков и молока, красные машины Рено с изношенной коробкой передач, мужские борсетки из искусственной кожи, откуда усатый мужчина достает пачку сигарет известной марки, – и армии призраков-партизан тают в застывшей лаве и экскрементах огромных кукол из Виареджо, кукол с микрофонами, похожих на журналистов, – они говорят – говорят, говорят, говорят, не замолкая ни на минуту, – кудахтающий мужской баритон ударяется о кишечные стенки мужчины-Италии, хлещущего бродягу-Италию, – но Королева-Матка готова защитить от энергокризиса, пустые битумные бочки складываются штабелями – в них чумной кислород, еще более вязкий, чем нефть, – Королева-Матка запускает по миру паутину телефонных стеблей, соединяя последнее поколение человекомуравьев, вылупившихся из ее яиц, – последнее поколение самое бледное и хилое, гномоподобное и дебелое – забилось в уголок и дрожит – но бледные человекомуравьи трындят по раскинутым желеобразным сетям и выкрикивают в мир итальянские слова с ужасным американским акцентом – ревущая машина-призрак выносится на сцену и сбивает призрак Пьера Паоло Пазолини, Поэта-гомосексуалиста – но он остается стоять, где стоял, – атлетичен и бодр – он шлет привет за океан другу Аллену Гинзбергу – призрак Пьера Паоло Пазолини пишет письмо от руки, он единственный, кто еще не разучился, человекомуравьи наполняют свои бурдюки чумным кислородом – в тайном убежище блестит золотая ниша, где молча и неподвижно сидит золотой человек, он произносит: «Мне стыдно быть телом» – мудрецы былых времен сброшены с корабля современности учениками, мудрецами времен сегодняшних, скрижали испещрены примитивными грубыми формулами уровня Барби – воздух перенасыщен вирусом телефонии – Марко Тронкетти Провера засовывает в рот потомку рода Аньелли жирную куриную ляжку, и зрители (католики-банкиры и масоны) радостно аплодируют, смеясь над тем, кто опоздал на церемонию, их стрекот и кудахтанье летят к равнодушному небу, которого не разглядеть за угольным потолком темного грота, – аукционист устанавливает огромную механическую диораму, долженствующую изображать небо, на кобальтово-синем гипсокартоне проступают, точно далекие звезды, белые галогены – аукционист вертит ручку и механизм приходит в движение, плоское голубое небо крутится, крутится небо ночное – человекомуравьи шамкают ртами, откуда вырывается странная итало-американская речь, и принимаются бодро вертеться вокруг костра – сжигают книги Марсилио Фичино, но нет предела разрушенью – в церквях отчаянье и ужас – Рахаб породил Вольтера, Тирза породила Руссо, сотворив правосудие индивидов, посмеявшись над мучениками и исповедниками, заявив о праве «я», Беула и Ультро своим существованьем жестоко переиначивают виденья Свендеборга, и в Риме послушно кивают, подпитывая семенами вражды вечный жизненный цикл Королевы, которая с тех самых пор совокупляется с самцами и порождает из огромного чрева яйца человеколюдей – но в Риме послушно кивают – я не устаю лепить свою статую – хотя отчаянье разрастается, – отчаяние за себя и за Италию – и голова моя застыла над землей – хотя термиты шестьдесят лет подряд грызут и подтачивают ствол, в корнях которого виднеются разложившиеся тела, – человекомуравьи испытывают священный ужас при виде вечно живых мертвецов – после того как физическое тело умрет – многие из них останутся здесь – шаман наложит руки на новые тела, и теплые сладковатые магнитные телепатические волны потекут к нему, шаман умеет не отвлекаться на пули-образы и на хлыст Королевы-Матки – он видит тела, пожирающие сочные ростки, которые кажутся куда живее пожирающих их тел, – цветущие орхидеи исчезнут с лица земли, озерные кувшинки – о как я вас любил! – шаман вглядывается и вслушивается, а мертвые шепчут ему над телами человекомуравьев и пугают их – в эфире парят волны, создаваемые усиками Королевы, – они проникают повсюду и душат и лезут сквозь вязкие головы человекомуравьев и бледных людишек, погрязших в своем желатине, – но падает слово и падает образ, и как же сказать мне – прощай, человек? – усики Королевы метнулись стрелой – я вижу мужчину, и взорваны капилляры лица, и проступили вены – он читает Киплинга, Назыма Хикмета, Халиля Джебрана – длиннющие поэмы, рвущиеся из пропахшего спиртом рта, отпечатанные на золотых скрижалях – золотые листы, унесенные кошмарными снами человеческих муравьев, спящих с открытыми глазами и на ходу, а значит, не спящих – О, яви же нам чудо! – кричат многолетние многоножки – старики-многоножки набросились на призраков-террористов, влипли в желе, встали стеной против бледненьких юных человеческих муравьев – бледные муравьишки устали совокупляться – желе покрывает их с головой, так видят их старые многоножки – Королева смачивает воображаемой водой крохотные клешни человеческих муравьев, которые несут и несут к ней бурдюки с отравленным, чумным кислородом и желто-зеленую пену на блюде – но тонут картинки в расплавленном металле – картинки, на которых веселые люди строят из себя мексиканцев, провозглашая, что нашли лучшее средство от сна в летнюю ночь – Пророки, блаженные, кликуши появляются на огромных стеклянных экранах, висящих повсюду среди сталактитов – Позади Трона Сатаны открываются двери в Голгонуцу, город искусств и ремесел по Блейку, этакий духовный Лондон – немец-Папа, громада, в смущенье распахнул объятья в знак приветствия, с легким оскалом, потому что у него ишемия, источена в пыль червяками его чудодейная роба, от времени мхом поросла – с экранов летят кадр за кадром «Ты любишь? Любишь?». Сюжет до нелепого прост, история завораживает человеческих муравьев, кладущих голову под нож гильотины иль брошенных в ванны, стенки которых прогрызли миноги-гиганты, присосавшиеся к плоти альдегидов – сюжет до нелепого прост – незадолго до свадьбы мужчина предаст будущую супругу – но сделает это ДО, а значит, супружество не пострадало, значит, можно жениться, и он женится, в жажде узаконить фактическую, фаллическую связь – навсегда – без конца и края – человеческие муравьи подтачивают корни дерева жизни, ствол коего не из дерева, а из плоти, и тянется вверх – медленно, осторожно – нет, то не безымянный какой-нибудь ствол, но огромный удав, тянущийся по полу вдоль стены огромной ванны той самой пражской квартиры, что была, когда жили еще те призраки-террористы, когда ходили они еще в тапках и представить себе не могли, что их ждет столь странная и столь долгая жизнь – и все же образы-пули поражают нервную систему человеческих муравьев – пока Королева спаривается и плодит белесые яйца, она запускает во вселенную страшные образы – завоевание Марса, глобальное потепление, оборот полюсов – все это уже было тысячи раз – дорогой господин Павлов, позвольте поздравить вас с получением почетного итальянского гражданства, разрешите вручить вам ключи от Рима – господин Павлов, приобщите и нас своему тайному знанию – Джакомо Леопарди распят на кресте на склоне посреди огромного леса, в тонкие руки поэта, в конские стопы его вбиты проржавелые гвозди, полуслепые глаза смотрят вперед, скручено хилое тело и пахнет мочой, человекообразные муравьи собирают ее и несут Королеве, чтобы та перестала томиться от жажды – Боги встают из-за накрытых столов, опьяненные мысленным соком, – этот нектар им дарует всесилье несмолкающей речи – призрак Альдо Моро дрожит на черно-белом экране, он обращается с речью, что длится семьдесят долгих минут – «Нет у нас Кеннеди, нет!» – протестуют те муравьи, что постарше, изнуренные долгой работой по добыче еды для своей Королевы, – и тут же в них пробуждается непонятное желание что-нибудь сделать с собой, умереть – немногие выжившие припадают губами к огромным горошинам транквилизаторов – там, где просвечивает крохотный клочок земли со зреющим зерном – саранча набрасывается друг на друга, вгрызаясь в обгрызанный недотекст – сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа; и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, но то Интеллектуальная Саранча – зерно остается на полях, потому что саранча стрекочет и верещит, вцепляясь в соседа, но не слушают стрекот человеческие муравьи – погрузившись по научению в заповеди вроде «смертный мозг окружен стеной и рвом, и Ог и Анак стерегут их; здесь засел Сатана с его паутиной» – И вот я хочу изобразить себя, дабы человеческие муравьи пожрали меня, точно хлебный мякиш – «Душа – главнейшая наша часть, и она-то и есть сам человек» – кто не познал наслаждения общения с собой, пусть представит, вспомнив любимое существо, что значит увидеть самого дорогого тебе человека – И вот я, Джузеппе Дженна, сажусь и пишу страницу за страницей роман, героем которого выступает Джузеппе Дженна, а саранча и человеческие муравьи пожирают страницы, точно вкуснейшее блюдо – и молчаливая гордость взрывается в горьких словах, что взрывают меня изнутри «Приимите, ядите, сие есть тело Мое» – мое, не его – Он умрет, не дожив до шестидесяти – желтушный, с раздутыми раком легкими, так и не бросив курить, – И когда человеческий след отпечатается на резинной розоватой земле Красной планеты – и безымянные люди в защитных костюмах взглянут на каньон, откуда пришел человек – прежде, чем впиться, точно миноги, в теплую склизкую почву новой планеты – Королева родится, и ее огромное тело будет печь бесполезные яйца, ведь лишь с появлением позвоночника и языка явится коитус, Королева поймет, что носитель семени болен, но лечить – это значит делать лишь хуже, патология пусть процветает: медленная, животная, слоноогромная – вот откуда явилась чесотка – из жутких картинок – загоняя густой желатин во все дыры бледных больных муравьев признаки-террористы поклоняются древним богам – богам Майя, Ацтеков – ивовые корзины сокровищ служат ловушкой и копятся – путь предначертан – великий путь – путь к вершинам Куско, к его пирамидам, сожранным безжалостным временем, – они им больны – но, собирая легенды, встали вдруг путники: путь преградила змея – Уроборос-гигант взлетел к небесам и себя пожирать принялся – кровь закапала с неба на счастье тех муравьев, что шагали, неся бурдюки, друг за другом – Куско ли, Марс ли, Куско ль как марсонаследник – пророк Петер Колосимо нам оставил в наследство священные книги и карты, чтоб могли мы вернуться туда, откуда мы родом, – неуверенно он произносит слова, мешая их с диалектом и раздражая слух сильным немецким акцентом, – Ты возвеличиваешься, а значит, отвергаешь все то, что по другую сторону тебя – И вдруг я замечаю человека, дрожит он и испуган – хнычет, и тянет с силой кляч вперед – его подхлестывают страшные картинки, что лезут вон из лона Королевы – вопросом задается человек – откуда тянется эта страшная тень, но тащит вперед кляч и быков – и наблюдает он, как пляшут тени, и думает, что это есть реальность, и спрашивает, где же солнце – и черви сырные набросятся на тело прежде, чем замысел вопроса форму примет – так если ты готов отвергнуть все, что по ту сторону тебя, и продолжаешь страдать, в одежды плоти обрядившись, выходит, все, что по ту сторону тебя, тебе явится – не индивидуумы, но Государства, Ячейки общества – вот кто мы, мы порождаем правила святые, нам данные во времена Церквей священных двадцати семи, – окаменев, замолкнув, в тишине (лишь ветер слышен, он вздымает розовую пыль) в ослепительно-белых скафандрах люди идут вперед по земле Марса к холодному солнцу – в два раза меньше того, что видно нам с Земли – меж тем упомянутый фильм идет на экранах во всех залах планеты «Ты меня любишь? Любишь?» – и все бегут смотреть – неведомы заброшенные шахты, покатые изгибы борозды, оставшейся от грубого металла, текущего неведомо куда, смолы фонтаны и азотнокислой соли из недр его, и древние дворцы давно разрушены, и города, и сфинксы, и всё прочее – всё стало раскаленным песком: Пал Человек, Пал Бог, и дикие равнины заполнились компостом, а мраморные горы стали пещерами опасными, куда не глянет Бог – расщебетался череп, расчирикал на птичьем языке – Но говорить на итальянском надо плавно, распевно, каждый звук спешит взорваться, с губ слететь, уйти, очистить место другим, и песнь его звучит хрустальным звоном – разбит хрусталь – магнитофон пришел на службу точной науке Великого Делителя, что суть Королева-андрогин, которая вынашивает яйца, не зная пола – все же их родит, не будучи мужчиной – оплодотворяет – и группы мелких клеток уже мечтают слиться с силлогизмом и кинуться увещевать толпу больных, лежащих неподвижно на постелях под капельницей с трубками во рту – больные силятся кричать – но звука нет – и Королева чувствует, что травма наступает, что стресс грядет – она свои скрижали создала, и нет теперь Отца, и Матери, и Архетипа – но есть она, и есть ее святые: Спа-салоны и финансовые деривативы – и место, где добро захоронить, – одним, в ночи, моля пощады и работы – Из зарослей прибрежных крыса вышла, влача по берегу раздувшееся брюхо – не крыса, а разменная монета – змея себя жрала, лилася кровь для тех, кто жаждал счастья, один, в ночи, молившись о работе, – несет река мне масла и угля, скользят по маслу баржи – подвижна и легка волна – она того коснется, кто один, в ночи, в своей квартире молит о работе – потрескавшаяся глина на дверях в его квартиру – о, если бы была работа – только нет, и нет надежды, нет мечты, желанья нет – одна лишь мысль – так дайте мне работу! – И нет работы – И нет воды, ах, если бы была – но нет скалы – а если бы была скала – вода – источник – ручеек средь скал – хотя бы звук, журчанье – но нет воды, и вечером один в своем дому, возьмет он хлеб, преломит и намажет паштетом, семь тридцать вечера, и взмоют в небеса огни петард в знак призрачного счастья. Настанет год две тысячи шестой, и один он поест, подложив под тарелку бумагу, разложив на столе из пластика белого скудный свой ужин, и в лучах тусклого желтого света упадет со стола его старая лампа, пока он решает кроссворды. И тогда он привстанет со стула и выключит желтую лампу и включит другую, что в ванне, и поднимется, и омоет он руки. Подойдет к телефону из серого пластика, родом из семидесятых, вставит палец, крутанет диск – это редко бывает – наберет по бумажке единственный номер – сыновий – и спросит, все ли в порядке, а сын его спросит, какие планы на новогоднюю ночь. И ответит старик, что плевать ему на новогоднюю ночь, что ложится он спать. И затем распрощается и наберет новый номер – дочерний – и спросит, как жизнь, и ответит, что с ним все в порядке. И потушит он лампу, и вытащит челюсть вставную и опустит в стаканчик с водой, и зальет синеватым раствором. И вспыхнет свет в маленькой спальне, и послышится легкий шорох шагов по потускневшему старому полу. Он поправит постель и откинет свое одеяло. И вдруг поскользнется, едва не ударившись лбом о кровати темное дерево. И за десять-двенадцать секунд он умрет, но пред тем он почувствует боль в самом центре груди, и выкинет левую руку, пытаясь хоть как удержаться, и так и умрет, ухватившись рукой за матрас. И изогнется рука, и сожмется кулак. Всего в метре висит на стене батарея. И весь следующий день пролежит он один на полу, и будет верещать телефон, и будут гудки, но не будет ответа. И на следующий день его сын, его дочь вскроют чертову дверь и увидят, что свет не потушен, и темная тень в коридоре от света из спальни, и с криком «О, папа!» метнется в комнату сын, самым первым вбежит он в проем – но ничего не увидит, не сразу заметит он бледную пятку, прильнувшую в светлой стене за кроватью, и так обнаружит он труп.
Труп окоченел, он застыл в rigor mortis. Конечности посинели, раздулись. Левая рука, приподнятая в последнем усилье, застыла согнутой, со сжатым, сине-малиновым кулаком. И пришел санитар, подрабатывающий втихую, и пришел человек из бюро, и положили прах на постель, но рука все торчала и выдавалась над поверхностью одеяла. И сын увидел спокойное чье-то лицо в верхнем углу, немного слева от трупа, оно улыбалось. И сошла благодать, и растаяли прошлого ледники. Он вспомнил, как в прошлое воскресенье отец говорил за ужином в ресторане: «Не узнаю я ни мир, ни Италию, это все так от меня далеко». А на следующее утро, когда труп отвезли уже в морг, сын долго смотрел на след тела, оставшийся на кровати в старой отцовской квартире, которую предстояло теперь убирать, разбирать, натирать – одиночество, черепная коробка – последнее наше пристанище, прикрытый рот, точно в ледниках – закрывается подрагивающее око, растворяется, раскрывается, распыляется в ничто – что делали бы бессмысленные безлицые человеческие муравьи, бормоча на своем итальянском, что делали бы они без этой вот тишины, без ямы, откуда доносится шепот, что делали бы они без этого механического гипсокартонного неба, крутящегося по ошибке вдали от какой-либо жизни – в пыли под грузом бесполезного балласта – Покрытый муравьями с головы до ног, покачиваясь, человек протягивает руку вперед куда-то – Горящий факел-человек, покачиваясь, протягивает руку – Утопленник с разверзнувшимся ртом и широко раскрытыми глазами захватывает воздух из последних сил, но в рот вода лишь льется, темная соленая вода – протягивает руку человек вперед куда-то, а рука слабеет – Зыбучие пески затягивают человека, вперед протягивает руку он, рука слабеет – заброшенные, но еще живые гнезда – смотрите же во все глаза и распахните уши: «Кризис ликвидности может дойти до крайней точки и обрушить хедж-фонд, накрыв рынок гигантской волной», – кричит аукционист, одетый в потрепанный и старый фрак, пропахший нафталином, – процесс сублимации нафталина аналогичен процессу человеческого феномена – «Хедж-хедж-хедж». Яснее ясного, а? «Спекулятивные фонды еще недавно лелеялись богачами и магами-финансистами – все мои дети от меня, а мать – саранча», – заявляет аукционист, огромный серо-зеленый Кузнец-Саранча с гигантскими челюстями, из которых вырывается смех.
В серных облаках парит огромный змей, истекающий кровью, он устремляется к Кузнецу-Саранче и сжимает его в холодных змеиных объятиях, Саранча задыхается и хохочет зловещим смехом, глаза вылезают из орбит – Кто ты, читатель романа? – Не подходите к Дискотеке, не ступайте на порог, там вам конец – ее огромная парковка – подмостки, на которых проходит трафик всего нечеловеческого – дрэг-квин подключилась к черной розетке, электричество крутит огромное вертикальное колесо, на котором висит человек, на нем копеечное белье, электропровода подведены к его гениталиям, электричество бьет током, крутится колесо, он вздрагивает, подскакивает и вновь, обмякший, падает – колесо продолжает крутится, он привязан – вихрем кружится колесо, слышатся рукоплесканья выросших деток, что в прошлой жизни делали то, за чем наблюдали сидящие в офисах из стекла и бетона, сделанных по проекту швейцарца – на Дискотеку приходит группка бывших детей – нагие, толстые, в детских чепчиках, а меж пухлых старческих губ огромная соска-пустышка – древний плуг – знак того, что вся боль на земле не напрасна, – лазерный луч испепеляет в ничто волосатого гея, целующего лесбиянку, которой нравятся геи, она удивляется, куда он подевался, язык упирается в воздух, красиво смеется, подносит руку ко рту – какие прекрасные зубы – Колгейт, сделанный по договору аутсорсинга – Колгейт токсичный – «Китай отрицает глобализацию, так что его партнеры готовы дестабилизировать рынки, западные финансисты надеются, что показатель ликвидности вырастет, впервые Биржи платят за кризис в нормальной стране, а не в странах третьего мира». На дискотеке продают странный коктейль из кристалов, бокал в форме распятья – думают, это поможет воскреснуть – лазерный луч в беспорядочном танце мчится по залу – все здесь – дети своей Королевы – из стетоскопа тянется луч, и на стену проецируется фильм «Ты любишь меня? Любишь?» – сюжет изменился – теперь в центре истории некая обезьяна – обезьяна тянет в постель самца и его любовницу – все втроем занимаются сексом – крики, верещанье, прыжки по кровати, любовницу душат – ей еще нет восемнадцати – ногой обезьяна хватает ее за шею и душит, и душит, а в камеру шепчет слова: «Я – Макака истории», затем она душит самца, бежит из мотеля, садится на старую «веспу», точно Грегори Пек, носится по Риму, напялив шлем, – Макака истории – прекрасный сорокалетний андрогин, сталинист и дурак, тормозит у кафе и заходит, растолкав посетителей в летних футболках и шортах, купленных на крохотном рынке, вспотевших – он залезает на барную стойку и пляшет, пляшет танец, на который его вдохновила Элиза, – хватает свиной окорок с перцем и бросает в сторону полок с продуктами, а на следующий день он является в церковь, и на нем элегантный смокинг – церковь затеряна в живописных холмах – молодые долго ее выбирали, родители жениха и невесты одобрили выбор – невеста целует Макаку под внимательным взглядом синюшного священника, он начинает сдуваться как шарик – Опухоли растут и растут в детях, играющих в мячик, – «Блестяще», – восклицает профессор Сильвио Гараттини – в нежных эмбрионах – внутри черепов пульсируют вены, вены проступают на запястьях, проступают сквозь белую ткань водолазки – вот Италия, Италия, несущаяся вперед, впереди планеты всей – Королева велит, и по её веленью родится желанье – Бежать от разнообразия к единству – Леопарди на кресте уже не кровоточит – слизь и кал сочатся из ран, где вбиты гвозди, а крови больше нет, он говорит мне голосом Целана: «Я знаю женщину, мечтавшую о сыне, что била палкою беременную лошадь, крича: «Ты сына ждешь, а как же я?» Так многие испытывают зависть и ненависть к благополучию и счастью других людей, к тем, у кого есть то, что мы желаем, но не можем обрести, иль к тем, кто воплощает то, чем быть хотим мы. Но зависть характерную черту имеет ту, что все она растет, и, получив одно, желаем больше мы. Чем яростнее зависть к большему томит сердца подобных нам, тем яснее видно, как преисполняются они желанием и страстью, что к ненависти их ведет и зависть множит. Но невозможно мне сказать, что их желание удовлетворится, ибо желанье быть удовлетворено не может, одно другое за собой влечет, одно погасло – вспыхнуло другое, и самое себя теряет человек, когда поймет, что нет предела желаемому, и в себе не может быть он никогда уверен. И новое рождается желанье: познать до дна то, что уже ты приобрел» – слова его больно ранят Королеву, она требует, чтобы они исчезли, – слова исчезают, лишь образы остаются – короткие, быстрые – сцепляются они с другими – не связанные друг с другом, бессмысленные образы – вот одинокий Чезаре Павезе истекают кровью, твердя столу стеклянному: «Тоска рождается из скуки» – Королева мгновенно насылает к нему термитов, чтобы выкачали кровь, чтобы уничтожили слова – слова исчезли – призрачная мякоть рождает террористов-призраков, они поют «Прощай, красавица» и лезут из нее смущенные, оглохшие, невесть как оказавшиеся здесь – они несутся прочь – Буш топчет ногой итальянскую землю, он топчет клумбы, насаженные премьером лично – и официант в ливрее проходит мимо президента и премьера и корчится от смеха: «Я – голографичен!» – но тут же в ход идет термит-солдат, он бьет и пожирает официанта – Итальянцы охотно хлопают в ладоши, на экране идет римейк «Ты любишь меня? Любишь?» – Террористы ступили на генуэзскую землю, где встречается восьмерка
5
Для этого случая (лат.).