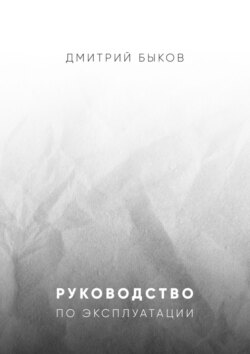Читать книгу Руководство по эксплуатации - Дмитрий Быков - Страница 5
Глава 1.
Детство
ОглавлениеВ начале было слово? Да нет! В начале был свой дом в Ленинском районе Челябинска, где автор и появился на свет в начале далекого 1967 года. Слово, конечно, тоже было, но чуть попозже.
Дом, в который я «приехал» из роддома
Как начал говорить в год, так до сих пор остановить никто не может. ☺
Но радость зелени со своего огорода продлилась недолго. Под натиском многоэтажек частный сектор «Порт Артура» исчезал. И в возрасте трех лет ваш покорный слуга переместился вместе с родителями в первую в своей жизни квартиру. Большой плюс житья в своем доме – не только приусадебное хозяйство. Родители папы жили с нами под одной крышей. Родители мамы были «значительно» дальше – в 200-х метрах. ☺ К тому времени все они уже были пенсионерами – проблем с гулянием, кормлением, общением не было.
Историческая реминисценция вместе с аллюзией и ретроспекцией (неявная цитата из памяти, мысленная отсылка, цитирование без кавычек). Порт-Артур – это потому, что район в 100 метрах от железнодорожной станции Челябинск на Транссибе. Через Челябинск везли солдат на Русско-японскую войну и обратно. Сама станция – с одной стороны путей, места под жилье для военных – с другой.
На улице Воронежской (ныне Масленникова) я прожил до школы. Под приглядом бабушек и дедушек наслаждался жизнью. В четыре года научился читать, в пять лет был записан в первую свою библиотеку и даже успел попробовать коллективное воспитание: целых полгода отходил в подготовительную группу детского сада.
Малая кармическая беда моих молодых лет.
Те, кто жил в СССР, должны помнить строившиеся в каждом районе двух- и трехэтажные кубики Комбинатов бытового обслуживания (КБО).
Не будет отдельных парикмахерских, химчисток, швейных ателье, будет одно сплошное телевидение… Извиняйте, КБО.
Вот с ними мне как-то и не везло. Наш дом сломали, построив на его месте новый бетонно-стеклянный комбинат. Переехав в квартиру, я думал: сбежал от кармы.
А вот и нет! Еще один комбинат начали строить в пятидесяти метрах от моей новой квартиры, на стройке которого я умудрился в теплое предпервоклассное лето сломать себе вначале руку, а потом и ногу. Как итог – в своей первой школе №77 мне физкультурой так и не довелось позаниматься – освобождение на полгода врачи выдали.
Историческая реминисценция. После всех прошедших лет, на мой взгляд, из трех КБО «рядом со мною по жизни» Масленникова, 17а единственный комбинат, что перестроился в общественное здание. Не стал частным офисом, как КБО на месте моего рождения, Барбюса, 110, но и не разваливается, как сейчас КБО на Васенко, 96, что рядом с моей школой №1, в которую я ходил со 2-го полугодия первого класса до выпуска. Ну и позже иногда бывал…
Комбинат бытового обслуживания после реконструкции
Что бы ни говорили про абсолютную плановость советского народного хозяйства, и планы давали сбой. Наше поколение – дети детей военных лет. Мало нас было изначально. Но при этом школ местами ну явно не хватало. И свое учебное десятилетие я начал в 1 «Б» классе школы 77.
Учеба в первом классе. Интересно было общаться со сверстниками. Сразу и много и мальчишек, и девчонок – с таким я, пожалуй, тогда еще не встречался. Даже подготовительная группа детского сада сразу показалась тихим и спокойным местом.
А вот сама учеба… Читать я умел с четырех лет, считал в объемах начальной школы еще до поступления в первый класс. Но вот, несмотря на усилия прекрасных учителей начальной школы, им мой «курицелапный» почерк исправить не удалось. Так и живем мы с ним на пару уже почти полвека.
Но подкатили и другие проблемы со здоровьем. Уж и не знаю, что было тому причиной. Может, экология, может, здоровье моего юного тельца перенапряглось и немного надорвалось. А может, то и другое вместе.
Даже просто дышать осенью 1974-го становилось все некомфортнее и некомфортнее. Говоря русским взрослым языком – хреновато становилось. Врачи поставили малоприятный диагноз – астма!
Историческая реминисценция. И поэтому сейчас, глядя на «больных астмой» чемпионов мира на лыжах и на велосипедах, ничего, кроме презрения, к таким клоунам испытывать не могу.
Но у меня тогда как-то все удачно сложилось. Историческая справедливость повернулась ко мне позитивной половиной своей двуличной физиономии. В Челябинске первое детское аллергологическое отделение организовал и возглавил Ярослав Игоревич Жаков. В ноябре я «был покладен» в его отделение в первой городской больнице. Как меня там только не кололи и не царапали! ☺ Не подумайте ничего этакого – просто пытались определить то, с чем мой организм сосуществовать отказывался, что могло довести до аллергического шока. Вспомните пробу Манту и умножьте раз на пятнадцать.
Все оказалось достаточно просто, но непривычно – аллергия на пух-перо. И стать наследником пуховых подушек и перин от бабушек и дедушек мне с того момента уже «не светило». Надо сказать, что окончательные последствия этих приступов астмы изжились лишь к классу шестому, когда я смог нормально бегать не только на 60 и 100 метров, но и на длинные дистанции, не останавливаясь каждые 2—3 минуты на «глубоко подышать».
Может, я и излишне оптимист, но с детства старался находить в любом глобально отрицательном что-то положительное. Вот и тогда. Пролежав в отделении, счастливо избежал шумихи, суматохи и неразберихи, связанных с переездом на новую квартиру.
Приехал и стал врастать и готовиться к серьезным переменам. Поменялось не только место жительства, но и место ученичества, и место молодежно-общенчества. А если без словесных выпендрежинок – поменял не только дворовую компанию, но и школу. И теперь уже до самого окончания хочешь не хочешь, можешь не можешь, но Первая школа.
«И бац! – вторая смена». Это тоже встречалось, но в меру и особо по жизни не напрягало.
Что было реально великолепно в новой квартире – вид на город. Умные люди выбирали место для храма на холме на высоком берегу реки Миасс. И «из нашего окна», расположенного в ста метрах от единственной тогда в Челябинске церкви, открывался изумительный вид на весь центр Челябинска. При этом все трубы с их дымами были скрыты от взгляда.
И вот уже 8-летний Дмитрий Быков направил свои стопы на обучение в школу №1 имени Энгельса. Руководил тогда ей один из педагогов-новаторов 1970-х годов Владимир Абрамович Караковский. В этой школе я учился, общался и жил еще девять с половиной лет.
И где с директором сталкивался физически. Ну были рядом кабинет директора и 1-е классы. Ну бегал я быстренько, никого вокруг не замечая. Ну попало маленькое пушечное ядро точно в центр корпулентной фигуры Владимира Абрамовича. ☺
Историческая реминисценция. Приемный экзамен перед первым классом в нашей «англицкой» спецшколе тогда профанацией не был. В начале 80-х на экзамене была «зарезана» внучка первого секретаря обкома КПСС, что аукнулось школе снятием статуса специализированной и присоединением «левой» школы.
Школьные годы чудесные. Вроде и избита эта фраза до невозможности, но истинности от этого не потеряла. И большая часть моих друзей спустя 44 года все еще оттуда – из первого класса школы номер раз.
Начав потреблять информацию в текстовом виде (говоря по-нормальнорусски – читать), никак не мог остановиться. Хотелось узнать все. Был по-юношески самоуверен, что смогу объять необъятное. Школьной программы, особенно по лично интересным предметам, категорически не хватало.
Куда пойти ЕЩЕ учиться? В НОУ (Научное общество учащихся), где тех, кто желал развиваться за пределы школьных учебников, поддерживали по всему тогда еще единому Союзу.
Научные секции весь учебный год, в зимние и летние каникулы – выездные сборы НОУ «Курчатовец» на всесоюзные конференции – скучно не было ни разу. Как к настоящим друзьям в гости, на сборы и конференции приезжали ТАКИЕ ЧЕЛОВЕКИ! Радуюсь и горжусь тем, что с одним из них – Александром Александровичем Боровым – дружим и общаемся до сих пор.
Историческая реминисценция. Сан Саныч всю свою научную жизнь отдал Институту атомной энергии имени И. В. Курчатова, что, однако же, предполагало и очень долговременные командировки. С 1986 по 2007 год работал в Чернобыле. Может, я и социальный экстремал (в мечтах), но одно из того, что не получилось сделать в жизни – вживую посмотреть на 4-й реактор ЧАЭС, где Александр Александрович до первого Майдана был Научным руководителем по ядерной и радиационной безопасности объекта «Укрытие» (защитно-изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС).
Я бы в баскетболисты, конькобежцы, дзюдоисты, из лука-стрелисты (дальше каждый читатель может продолжать сам, вряд ли сильно ошибется) пошел – пусть меня научат!
С чем ну никак не мог определиться – это с видом спорта, которым заниматься. Перепробовал много чего. В результате остановился на ГО (их еще не совсем корректно называют японскими шахматами), в которые и сейчас по Сети продолжаю играть почти каждый день. А если б тогда уже существовала федерация ГО, то мог бы гордиться званием мастер спорта СССР.
Но даже всего этого не хватало для израсходования всей моей бурлящей энергии. И стройка очередного (!) КБО в ста метрах от школы (Васенко, 96) давала возможность ее выплескивать.
Как ни автор, ни его друзья-одноклассники не получили хоть какой-нибудь серьезной травмы, играя в догонялки, прыгая по шестиметровым сваям, – для меня «сие тайна великая есть».
И на какие разные дела эта энергия тратилась? Умненького-разумненького, правильного мальчика там и рядом не стояло. А был нормальный живой пацан, попробовавший сигареты в 12 и алкоголь в 13. Дрались и в классе (а потом дружили), и класс на класс (а вот тут в дружбу перерастало редко).
В чем повезло? Друзья-товарищи были со знаменитых тогда (и отнюдь не хорошим поведением) районов Челябинска: Радиозавод, Остров и других, поэтому по городу гуляли мы достаточно спокойно, без излишних стычек.