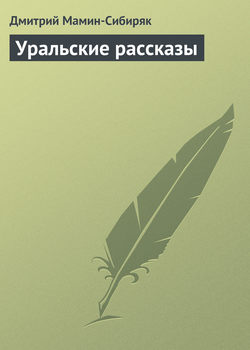Читать книгу Уральские рассказы - Дмитрий Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - Страница 14
Бойцы
XIV
ОглавлениеВторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.
– Руби снасть! – скомандовал Савоська Бубнову.
Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливанье водой, загорелось огнем.
– Крепи снасть намертво! – скомандовал Савоська.
Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.
По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.
– Отчего ты не выпустил каната совсем? – спрашивал я Поршу. – Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца…
– А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое – мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе – она от воды скользкая делается, свертывается с огнива… Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!
Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.
Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.
– Пять аршин с вершком выше межени, – проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.
А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.
– Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, – разрешил все недоуменья Бубнов. – Простоим долго…
– Типун тебе на язык, Исачка!
– Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать…
– Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?
– Должон быть беспременно… На Чусовой да водки не найти – дудки!… Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка…
– Всего двенадцать верст, – заметил Савоська, – и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы[16].
– Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом – того, как подопьют – из одной закатывают, как и мы грешные. Куда нас деть-то: грешны, да божьи.
– У меня не разбродиться по берегу, – говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку, – а то штраф… На носу это себе зарубите. Слышали?
– А как насчет харчу?
– Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.
– Ну, уж это тоже на воде вилами писано, – ворчал Бубнов.
В общих чертах повторилась та же самая картина, что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.
– У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили, – утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.
Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не прихватывало инструменту, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упросили его пустить их обсушиться под палубы.
– Пусти их в самом-то деле, Порша, – просил вместе с другими Савоська. – Не околевать же им… Тоже живая душа, хоть баба.
– А у меня курятник, что ли, барка-то? – ругался Порша.
– Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся, – острил кто-то.
– Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга… Только Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!
– Перестань божиться-то, Порша! Неровен час – подавишься!
Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было что-нибудь разобрать.
– Лодку у них унесло водой, – догадался Савоська. – Эй, братцы, кто побойчее – в лодку да захватите запасную снасть.
Порша не давал было снасти, но его кое-как уговорили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.
– Постарайтесь, братцы! – кричал Савоська вслед. – Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убилась барка-то…
– Успеем! – отозвался Бубнов, не поворачивая головы.
– Молодцевато плывут! – полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой. – Все наши камешки… Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.
В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.
Пришел Лупан.
– Больно не ладно, Савостьян Максимыч, – проговорил старик, усаживаясь на лавочку.
– На что хуже, дедушко Лупан.
Лупан придерживался старинки, хотя и якшался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.
– Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай, – рассуждал старик. – А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу снились, бабы балуются… В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.
– А как же, дедушко, по деревням люди божий маются еще хуже нашего? – спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой. – Там чай еще не объявился и самоваров не видывали…
– Там своя причина! Земляной горох[17] стали есть – ну и бедуют. Всему есть причина… Враг-то силен!
В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее вглядеться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.
– А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? – спрашивал Савоська. – Вода не страшна, да народ-то взбеленится… Наши пристанские да мастерки-то останутся, – только дай им поденную плату, – вот крестьянишки – те беспременно разбегутся.
– Уйдут, – соглашался Лупан. – Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальничек на носу… Уйдут!
– Как же мы останемся без бурлаков? – спрашивал я.
– Да уж, видно, так как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе…
Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.
– А… бунт!! – зарычал Осип Иваныч, меряя глазами собравшуюся толпу. – Ах мошенники, протобестии!
– Бялеты, Осип Иваныч… Нам ждать не доводится! – послышались нерешительные голоса в толпе.
– Что-о?? Как?! – взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов. – Почему… а?! Кто это говорит, выходи вперед!
Таких дураков не нашлось, и Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.
– Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! – ругался в каюте Осип Иваныч. – Беда!… Барка убилась. Шесть человек утонуло… Караван застрял в горах! Отлично… Очень хорошо!… А тут еще бунтари… Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали – все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут. Знают варнаки, когда кочевряжиться… Ну, да не на того напали. Шалишь!… Я всех в три дуги согну… Я… у меня, брат… Вы с чем: с коньяком или ромом?…
– Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? – спрашивал я.
– Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.
– Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время…
– И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу убитую барку другая убилась… Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик – и готово!… А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?…
Власть положительно вскружила голову Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел свое «я», а потом уж других.
Бубнов вернулся на косной только к вечеру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.
– Где вы, черти, пропадали? – накинулся на них Порша.
– На хватке были…
– А шары-то где налили?
– Говорят, на хватке…
– Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?… Ну?…
Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:
– Насчет харча, Порша… Вот те истинный Христос!…
– Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.
– А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли… Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать… То-то! А барку мы пымали… нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.
– Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать…
– Порша, мотри!
– Я и то гляжу.
Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.
– Шкурку променял на водку, а тут и закуска, – отшучивался Исачка. – Только бы Осип Иваныч не узнал… А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.
Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.
Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, «кондракт», «пачпорты» в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой – до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» – было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности – о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.
– Вам поденные будут платить, – говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.
– По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука… Куды мы с ихними поденными?…
– Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.
– И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!… Одна битва нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал… Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер… Слышал, может?
– Слышал.
– Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал… Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль… Помнишь, парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься[18] к отвалу… Плачет, когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!… Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников… Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить…
– А ваша артель не выворотится, Силантий?
– Ничего не знаю, барин, ничего… Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше…
– Этого никто не знает.
– Вот в том-то и беда.
На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.
– Ведь убежали! – встретил он меня.
– Кто убежал?
– Да мужландия… Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика… ну, старичонка, бородка клинышком: он всю артель за собой увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет… Я еще доберусь до него… я… я…
– Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?
– Ах, господи… Ну, как его там звали, Савоська?
– Силантием, Осип Иваныч. У носового поносного робил с артелью.
– Подлецы, подлецы, подлецы!
«Мужландия» не вытерпела, наконец, и «выворотилась».
– Шесть аршин над меженью! – крикнул Порша, меряя воду.
– Не может быть? Ты не умеешь мерять… – усомнился Осип Иваныч, выхватывая наметку из рук Порши.
– Как вам будет угодно. Осип Иваныч… – обиделся водолив. – Уж если я не умею воду мерять, так после этого… Позвольте расчет, Осип Иваныч!…
– Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!… Ведь это целых две сажени… Паводок в две сажени!…
– Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч, – докладывал Савоська. – Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула… Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.
А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.
16
На Урале раскольников иногда называют двоеданами. Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать. Раскольников также называют и кержаками, как выходцев с реки Керженца (прим. автора).
17
Раскольники называют картофель земляным горохом (прим. автора).
18
Оклематься – поправиться (прим. автора).