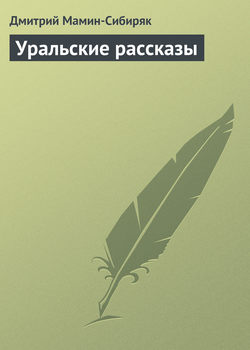Читать книгу Уральские рассказы - Дмитрий Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - Страница 17
Бойцы
XVII
ОглавлениеБойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического chair a boietz…[19]
– Одначе здорово нонче Чусовая играет! – говорит Бубнов, работавший под Молоковом и Разбойником за десятерых. – Барок с тридцать убьется в камнях… Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли каменские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки…
– Сила не берет.
– Известно, кабы сила… Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим… Дьякон даве под Молоковом страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь…
– Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы, – передает Даренка своей подруге Оксе.
– Один?
– Нет… Испужался, видно.
До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса – с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.
Нам скоро попалось несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чегенями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти-шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке – крайне тяжелая и опасная.
– Нам здесь хуже, чем в камнях, – объяснял Бубнов. – Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок – проваландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!
– Зато насчет водки здесь свободно…
– Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит… Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.
В одном месте, где Чусовая особенно широко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.
– Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! – улыбнулся Савоська, поглядывая на берег. – Ишь как разбирает!
Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камнем.
– Зачем бурлаки смеются над мальчиком? – спросил я.
– Это над парнишком-то?… А то и смеются, что больно хорошо песню задувает… Ишь какой дошлый!… Много их по весне здесь распевает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.
– Ну, а парнишка тут при чем?
– Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка омелеет… Пой, милый, пуще старайся!…
Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо – не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены… Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей.
– Вот те Христос, своем глазом видел! – божился Бубнов. – Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси… Пиканники, те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.
Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.
– Который бог вымочил, тот и высушил, – говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.
– Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? – спрашивал я у Савоськи.
– У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, – отвечал Савоська, – да в остожье[20] и заплыл…
Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:
– Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?
Рыжий сплавщик обиделся, что его назвали «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.
– А тебе черт ли не велел держать правее? – оправдывался рыжий сплавщик. – За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?
– Ах, рыжий дьявол!… Ах, рыжая багана!… – завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.
Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.
– Чего тут думать: думай не думай, а надо запущать неволю, – решил Бубнов. – Вот мы с Кравченком и пойдем загревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки…
«Неволей» называется доска, длиной сажен в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.
– Надо бы подождать косных, – говорил Савоська, – да кабы долго ждать не пришлось…
– Где их ждать! – кричал Бубнов. – Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них…
На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обыкновенно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и, таким образом, загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.
– Ведь черт его знал, что он тут сидит! – рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. – Кабы знать, так не то бы и было… Мы вон как хватски пробежали под Молоковом, а тут за лягушку запнулись.
– Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал… Ну, Порша, налаживай снасть.
Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.
Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе – необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходившего на струю, было не легкой задачей; неволя под ногами Кравченки колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.
– Готово! – крикнул он, ожигаясь от холодной воды.
Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.
– Мотри, не пожалей после, – говорил Савоська. – Твое дело не обычное, как раз замерзнешь… Вода вешняя, терпкая.
– Ничего, как-нибудь! – говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.
У поносных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке – величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.
Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:
Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету…
Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем…», и громкое эхо далеко покатилось по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченком поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.
– Ишшо разик, навались, робя!! – неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. – Идет барка…
– Как же, пошла… Держи карман шире!…
Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из закоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».
Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.
– Околевать нам, что ли, в воде?… – отозвался первым пожилой мужик с длинным, изрытым оспой лицом. – И то умаялись за день-то…
– Братцы! Еще разик ударьте! – упрашивал Савоська. – По стакану на брата… Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омелеть.
Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.
– Валяй по другому, Порша! – скомандовал Савоська, тревожно поглядывая на темневшую даль.
Снова «Дубинушка» покатилась по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.
– Ну, шабаш, ребятки! – проговорил Савоська. – Утро вечера мудренее. Что буди – будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.
– О-го-го-го!… – гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.
– Повертывай неволю, Кравченко… Шабаш…
Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.
– Отчего нет огня на берегу? – спрашивал я у Савоськи.
– Погоди, бабы разведут… Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас… Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.
Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства; как ром и коньяк.
– Зачем вы не остались у поносного? – спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.
– Совестно было… Засмеют бурлаки.
– А теперь как себя чувствуете?
– Одеревенел весь… Голова болит.
Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки – трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.
– Вода на вершок спала… – со страхом сообщал Порша сплавщику.
Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.
– Что будем делать? – спрашивал я Савоську.
– Чего делать-то… Придется, видно, воротом орудовать.
– А отчего не хочешь сделать разгрузку?
– Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.
Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.
Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти, и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом – настоящий праздник.
– Ворот надо налаживать! – кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. – Околели совсем…
– Ну, ворот так ворот… Нечего, видно, делать…
Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.
– Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!! – неистовствовал он в качестве предержащей власти. – Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?… А?… Я разве бог?… а? Разве я разом могу на всех барках быть… а? Что-о?… Бунтовать?… Сейчас с чегенями в воду…
– Мы ворот наладили, Осип Иваныч, – заметил Савоська.
– Вздор!… Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!… Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!…
Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.
– Поедемте в Верею! – предлагал он мне. – Отлично кутнем… Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее… Ха-ха… Не хотите? Ну, до свидания… В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире…
При помощи ворота мы через несколько часов работы, наконец, снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.
До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как «в камнях». В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как «в камнях» «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть «в камнях», чем здесь.
Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других, – одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.
Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу реки Мулянки, – впадает в Каму ниже Перми, – где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская эпархии (1379-1879 гг.)»:
«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажен.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне покатился угодник божий. Но господь, сохраняющий пришельцы (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение: однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».
От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынны, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.
На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.
19
Бойцового мяса… (франц.)
20
Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена (прим. автора).