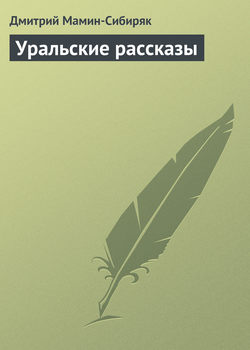Читать книгу Уральские рассказы - Дмитрий Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - Страница 21
Золотуха
III
ОглавлениеМне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека – его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлось все-таки артель-семья, как, например, Зайцы.
Главную массу приисковых рабочих составляли горнозаводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ни чьей головы, а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.
– Прежде, как за барином жили, – рассуждал старый Заяц, – бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели… Потому известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять – где робило сорок человек теперь ставят тридцать, а то двадцать – вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками… Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют… И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон, погляди, бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом чуть подрос – садись на тележку, вези пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды – оно тяжело, чего говорить, а все мужик, мужик и есть – а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски…
Мастеровые – народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие… Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.
– Ты чего это к кержакам к нашим повадился? – фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.
– Да так… Посмотреть, как работают.
Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:
– А они тебя боятся… Думают, что ты не на счет ли золота досматриваешь. Право… Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший… Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала. Ну, а брат-то мой… Видал, чай?
– Это с рыжей бородой?…
Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:
– Нет, это так… кум. Черт его знает, зачем шатается…
Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха-кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча. Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком, точно свежий блин на каленой сковороде, что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «От-то пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаза и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.
– Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, – обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, т. е. с раскольниками.
Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом, рядом с сестрой, казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек да широкие губы складывались в неопределенную, вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.
– Это Гараська-то бросовый?! – удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. – Да я вам скажу, дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам. Да-с.
– Да ведь он же не может работать, как другие старатели?
– Работать… что такое работать… пхэ! Лошадь работает, машина работает, вода работает… так? А Гараська – золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, – задумчиво прибавил Бучинский: – я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу…
– Почему так?
Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся:
– Вот вы живете неделю на прииске и еще год проживете и все-таки ничего не узнаете, – заговорил он. – На приисках всякий народ есть; разбойник на разбойнике… Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки и сейчас на большую дорогу. Ей-богу… А Гараська… Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.
Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.
– А вам что смотреть у нас? – как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от контроля шли к его вашгерду. – Робим, как все другие…
Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих намерений.
Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.
– Ну, теперь видел? – коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.
– Отчего вас работает всего четверо? – спросил я. – Ведь неудобно…
– Кому как, а нам и так хорошо.
Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того, разве, что кум, наконец, расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник сводить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнику, но потом уже расслышал, что это была песня.
– Ишь, развылась! – строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.
– Кто это поет?
– Да Гараськина Марфутка каку-то плачу все воет… Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то, чердынская выходит, так к ненастью и тоскует…