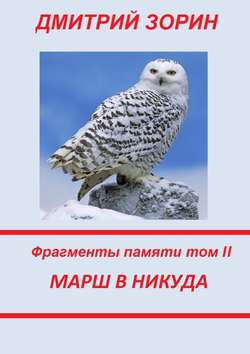Читать книгу Марш в никуда. Фрагменты памяти. Том II - Дмитрий Зорин - Страница 6
Часть первая:
Пора зрелости
(1961—1965 гг.)
Глава третья:
В новом качестве
ОглавлениеЯ, как и моя жена, пройдя испытание на пригодность рабочей профессией (слесаря), был переведён на следующий квалификационный уровень. Мне было предложена должность инженера по рационализации и изобретательству производственно-технического отдела, и недолго думая, я согласился занять эту вакансию. Так состоялся мой переход в новое качество, – теперь я относился к категории ИТР (инженерно-технических работников).
Моя работа в ремонтной бригаде была связана с использованием технических знаний. Товарищи по бригаде и в немалой степени начальник ремонтно-механических мастерских Николай Зубрилов, привили мне тягу к техническому творчеству. Этой болезнью я заболел сразу и болел ею все годы своей производственной деятельности. С Николаем Зубриловым, как я отмечал выше, мы были близки по возрасту, нас связывали схожие взгляды на жизнь, поэтому мы подружились. Он был активным и признанным рационализатором и изобретателем, о чём свидетельствовало наличие у него множества удостоверений на рационализаторские предложения, в том числе авторских на изобретения.
Возглавив БРИЗ (бюро по рационализации и изобретательству) комбината, я с увлечением окунулся в новую для меня сферу деятельности. Общение с людьми творческого склада ума требовало от меня необходимости постоянного совершенствования своих знаний, приобретения новых навыков. Одного метода самообразования было недостаточно, требовались знания на уровне высшей школы. Назревал вопрос продолжения образования.
Рационализаторы и изобретатели это в большинстве своём высококвалифицированные рабочие или инженерно-технические работники, наделённые от природы способностью к творческому мышлению. Они одержимы желанием, искать и находить новые технические решения, обеспечивающие повышение качественных характеристик продукта производства, замену ручного труда механизированным и автоматизированным. Их творчество направлено на совершенствование технологии и разработку новых более совершенных видов продукции.
Нередко для решения глобальных задач, обеспечивающих повышение экономической эффективности производства, создавались творческие коллективы. Они состояли из рабочих, ИТР, служащих – представителей АУП (административно-управленческий персонал), ну и конечно рационализаторов и изобретателей. Осуществление этих задач предполагалось на основе технического перевооружения производства, замены ручного труда механизмами, совершенствования технологии, или внедрения ряда других мероприятий. К этой работе привлекались специалисты разных направлений деятельности. Поощрение их деятельности осуществлялось премированием из фонда развития на основании полученной экономической эффективности от внедрения мероприятий. Координацию всей этой работы осуществляли, создаваемые на предприятиях бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗы) с различным количеством штатных работников.
На Красноярском ЛДК эту работу осуществляло три человека – инженер, техник и технический работник (секретарь-делопроизводитель). Эта деятельность всячески поддерживалась государством на законодательном уровне. Была создана система материального поощрения и защиты прав рационализаторов и изобретателей. В бюджетах всех уровней закладывались нормы финансирования этой деятельности. Были разработаны и законодательно утверждены таблицы поощрения участников этой деятельности в зависимости от размера экономической эффективности. Причём существовало две формы поощрения: до внедрения рационализаторского предложения, изобретения или мероприятия и после внедрения, что позволяло разделить творческий процесс от процесса внедренческого. Это понижало зависимость процесса технического творчества от этапа внедрения, во многом зависящего от администрации и других факторов, не связанных с творческой работой рационализаторов, изобретателей и творческих коллективов. Процессы в какой-то степени связывала материальная зависимость, потому как после внедрения возрастала шкала поощрения. Всё это стимулировало развитие технического творчества и нередко становилось серьёзной прибавкой к бюджету участников этой деятельности. Кроме этого для рационализаторов и изобретателей достигших серьёзных результатов в этой деятельности законодательством предусматривались дополнительные льготы и формы поощрения, включая, например такие, как дополнительная норма жилплощади и ряд других норм.
Это новое для меня направление деятельности оказало значительное влияние на развитие моего кругозора, обогатило меня новыми знаниями и навыками, расширило диапазон восприятия жизни. У меня появился осознанный посыл необходимости продолжения образования. Мы с женой подали документы в институты на вечерние отделения: она в Красноярский филиал «Иркутского института народного хозяйства» на финансово-экономический факультет, я в «Сибирский технологический институт», ныне – университет на факультет механической технологии древесины. Оба успешно сдали вступительные экзамены и были зачислены студентами на первый курс. К сожалению, вскоре один из нас должен был прервать учёбу по семейным обстоятельствам. У нас наметилось прибавление в составе семьи. Я понял, что временно прервать учёбу надо мне, и подал заявление с просьбой о предоставлении мне академического отпуска по семейным обстоятельствам. Моя просьба была удовлетворена, и я прекратил посещать занятия в институте. Надо признать, что дела с учёбой у моей жены складывались успешнее. Общеобразовательная база у неё была покрепче, и это было тоже весомой причиной для такого выбора.
Так получилось, что моё пребывание в новом качестве оказалось не долгим. Неожиданно для меня я, был отстранён от руководства БРИЗом, что не позволило мне в полной мере, проявить свои возможности в этом интересном для меня направлении. Причиной тому, как я сейчас это понимаю, была молодость с её горячностью. Место разумной выдержки заполняло заидеологизированное воспитание нравственной стороны жизни, предполагающее «открытую борьбу за правду», нередко она носила пафосный оттенок. Вместо поиска разумного компромисса, проявлялось отсутствие жизненного опыта, неумение просчитывать последствия и оценивать свои возможности. Всё это подогревалось моим продолжающимся участием в работе городского комсомольского оперативного отряда в борьбе с правонарушениями и преступностью. Я не мог мириться с тем, что около авторов рацпредложений и изобретений как грибы вырастали соавторы из числа людей, не имеющих, никакого отношения к творческому техническому процессу. Я со свойственной мне горячностью стал обличать их на технических совещаниях, проводимых у главного инженера комбината, высказывался против включения этих, как я считал, псевдо соавторов в списки на получение вознаграждения, что расширяло круг моих недругов. Приведу в качестве иллюстрации такой пример:
В деревообработке ключевой проблемой является наличие высокого уровня отходов в процессе производства, несмотря на достаточно широкий спектр в направлении использования отходов лесопиления и деревообработки, включающий: – гидролизное, целлюлозно-бумажное и другие химические производства, в которых использовались древесные отходы. Отходы производства также использовались в сушильных камерах для сушки пиломатериалов, в котельных для получения технологического пара, тепла, горячей воды и в ряде других областей. И, тем не менее, процент неиспользованных древесных отходов оставался очень высоким. Поэтому вопросам, повышения эффективности использования отходов в лесопользовании уделялось большое внимание, и поле деятельности для изобретателей и рационализаторов здесь было непаханым. На Западе эти вопросы решались лучше, чем у нас, но в условиях «железного занавеса» и различий в экономической политике, в приоритетности подходов и оценок, их опыт у нас не использовался или использовался неэффективно.
Однажды меня пригласил через секретаря к себе главный инженер. Когда я в назначенное время вошёл к нему в кабинет, там было уже несколько человек, которые оживлённо обсуждали что-то. После моего появления хозяин кабинета пригласил всех к стоящему сбоку большому столу. После того как все расселись, он объявил заседание технического совета открытым и в качестве повестки озвучил предложение авторской группы, предлагавшей организацию изготовления из отходов производства нового вида продукции. Авторы предлагали организацию производства фиброцементных плит, используемых в строительстве объектов сельского назначения и некоторых хозяйственных строительных объектов, не несущих тяжёлых нагрузок. Основным наполнителем предлагаемых к производству изделий были отходы лесопиления и деревообработки. Это было очень серьёзное предложение, реализация которого выводила предприятие на более высокий уровень экономической эффективности его деятельности. Решением технического совета был создан временный творческий коллектив – орган призванный осуществить конструкторскую и техническую разработки проекта, расчёты экономических обоснований, учитывающие объёмы затрат на его внедрение. Я как руководитель БРИЗа был назначен техническим секретарём этого коллектива. В мои обязанности вменялось осуществление координации всей работы над проектом на всех этапах его осуществления, и освещение хода работы на очередных заседаниях техсовета. Мне так же вменялись функции подготовки и при необходимости инициирование созыва внеочередных совещаний. Было так же принято решение о включении предложения в план развития предприятия с целью обеспечения его внедрения финансовыми и материальными ресурсами. Меня захватил предложенный проект, и я стал его участником не только по должности. Я занялся конструкторской разработкой одного из узлов агрегата. Мои старания оказались не напрасными, и предложенное мною конструкторское решение было принято техсоветом к внедрению. Сложность заключалось в конструировании кулачкового механизма выталкивания пакета в процессе движения в автоматическом режиме, а вернее в конфигурации самого кулачка. Я со свойственной молодому возрасту самонадеянностью полагал, что решил конструктивно ключевую задачу и неимоверно гордился этим, ожидая достойной оценки своей работы. Когда конструктивная и технологическая часть проекта были решены, на документальном уровне и утверждены техсоветом, мне было поручено произвести предварительные расчёты суммы вознаграждения за проделанную часть работы. Вся сумма по действующему законодательству выплачивалась после внедрения, на основании фактической экономической эффективности, полученной от внедрения. Решение о распределении этой суммы между членами творческого коллектива, участвующими в разработке проекта, принималось техническим советом, в состав которого входили все ведущие специалисты аппарата управления предприятием. Совет дал высокую оценку проделанной работе и принял решение о выплате вознаграждения её участникам. Когда я увидел ведомость на выплату вознаграждения, которая по положению о БРИЗе подписывалась и его руководителем, я был буквально шокирован. Доля вознаграждения руководителей предприятия и его аппарата управления, включая начальников цехов, по сравнению с непосредственными разработчиками проекта была несоизмеримо высока. Все эти лица имели право на поощрение, но после внедрения предложения, в котором все они в той или иной степени должны были участвовать. Но это, по моему глубокому убеждению, не должно было касаться стадии технической разработки, за исключением таких отделов как: – конструкторский отдел, ОГТ (отдел главного технолога) и ОГМ (отдел главного механика), которые участвовали в разработке проекта изначально. Я был возмущён, и в силу молодости и свойств характера не сдержан. Своё отношение я высказал публично, и ответом мне стало отстранение от дальнейшей работы над проектом и перевод на другую работу. Фактически я был лишён не только интересной работы, но и надежд на получение своей доли вознаграждения. Это было первым сильным ударом по тем моральным устоям, которым я следовал с детства под влиянием воспитания в семье и проповедуемых партией идеологических принципов честности, и справедливости, на которых якобы строятся отношения в советском обществе. Это не могло не способствовать появлению новых ростков сомнения в беспорочности системы, в которой мы жили. Думаю, что я был не одинок в этом. Многие из моих сверстников, я не сомневаюсь в этом, не раз испытывали в своей жизни нечто подобное. Выраженная мною протестная позиция и стала причиной конфликта. От увольнения я был защищён законодательством, которое запрещало увольнение молодых специалистов до истечения, оговоренного в законе срока.
В своей работе я не раз сталкивался со случаями принудительного соавторства в сфере рационализации и изобретательства. Часто это были лица, не имеющие ни какого отношения к техническому творчеству, но от которых зависели сроки внедрения, техническое и материальное обеспечение внедренческого процесса. Законодательство предусматривало поощрение лиц содействующих внедрению новых технологий, новых видов продукции, форм механизации и автоматизации труда. Это широко использовалось представителями администрации, которые, спекулируя на зависимости от них сроков и других показателей, влияющих на процесс реализации тех или иных задач, используя свой административный ресурс, побуждали к включению их соавторами предложений рационализаторов и изобретателей. Эта, как я считал, порочная практика ущемляла права рационализаторов, дискредитировала их труд. Я, как и многие мои сверстники, пришедшие на предприятия и, не обтёсанные ещё практикой жизни, естественно противились всему, что не соответствовало справедливости по нашим о ней представлениям, со всей энергией молодости.
Поиски поддержки у первых лиц в руководстве предприятием, в общественных организациях и, прежде всего в комсомольской и партийной, ожидаемых результатов не давали. Меня сначала терпеливо выслушивали, давали советы, которые противоречили всему, чему меня учили в семье, в школе, в техникуме. Когда я пытался разобраться и найти истину, меня одёргивали. Когда же и это не возымело действия просто, не спрашивая моего согласия, перевели приказом на другую работу. Много позже для меня стало понятно, что в те молодые годы, такие как я, были помехами для тех, к кому мы обращались за помощью. Мы, пытаясь добиться справедливости, не осознавали, что те, у кого мы ищем защиты, сами были частью и питательной средой той обратной, невидимой стороны действующей системы, которую мы с их подачи боготворили.
Система, сформированная на неофициально признанном своде правил поведения и взаимоотношений на разных уровнях жизнедеятельности общества, пронизывала по вертикали все уровни управления, включая государственное. Подарки, подношения в конвертах, организация приёмов и проводов, оказание разных неофициальных услуг за счёт фонда соцкультбыта и других источников были нормой. Многообразие форм различных поборов, позволяли пробивать принятие любых решений на любых уровнях, достигать целей по расхожему принципу – «цель оправдывает средства».
Я специально так подробно описал этот случай, чтобы читатель не питал иллюзий относительно наличия родимых пятен, свойственных всем поколениям. И наше, и предшествующее нам, и последующие поколения не были исключением. Просто надо стремиться, чтобы они не переходили в злокачественные опухоли.
Меня переводом, не спрашивая моего согласия, назначили на должность механика по башенным кранам. К этому типу оборудования я ни когда не имел никакого отношения. Крановщики, слесари-ремонтники, другие рабочие сразу поняли мой непрофессионализм и отсутствие практических навыков, имеющих свою специфику. Как в любом коллективе меня окружали разные по характеру, по уровню воспитанности, по профессиональной пригодности люди. Поэтому и отношение ко мне установилось разное. Одни меня, как говорится, в упор не хотели замечать, другие сочувственно показывали сопереживание, третьи помогали, заботясь, наверное, не так обо мне как о деле. Это было трудное для меня испытание, выход из которого определял моё будущее, хотя я этого ещё тогда в полной мере не осознавал. Не выдержи, и сломайся я тогда, и неизвестно, как сложился бы мой дальнейший путь. Видимо какие-то стержни Богом, природой или предками, что, в общем-то, одно и то же, во мне были заложены. Я не сломался и сделал всё возможное, чтобы разобраться в новом для себя деле, следствием чего стало появление уверенности в принимаемых решениях и их обоснованность. Видя это, часть пренебрежительно относящихся ко мне работников, как говорится «зауважало» меня.
Впоследствии, я часто задавал себе вопрос: в чём заключалась причина нестабильности моей и многих моих сверстников жизнедеятельности? Следствием этой нестабильности были частые перемены мест работы, многообразие возникающих проблем, в большинстве завершающихся осложнениями в отношениях с руководством и, обычно поддерживающими его представителями общественных организаций. Не редко эти осложнения переходили в конфликты, сопровождающиеся внутренними противоречиями и ощущением какой-то внутренней жизненной дискомфортности. Мучительный поиск причин возникновения этих ситуаций приводит меня к заключению, что эти причины были следствием противоречий между заложенной в нас генетической базой предков в совокупности с воспитанием нас на идеологии, внушаемой нам основоположниками коммунизма и практикой реальной жизни. Предлагаемый нам кодекс чести, которому мы неукоснительно должны были следовать, усилиями проводников этой идеологии, определяющими на практике жизнь советского общества, а значит и нашу жизнь, как его членов, диаметрально противоречил условиям реальной жизни. Вызванная необходимость выбора в многообразии противоречий своего места определяло нашу жизненную позицию, влияло на принимаемые нами решения и наши поступки, наше поведение и отношение к окружающему нас миру.
Нам и последующим поколениям советского периода предписывалось соответствовать принятому ХХII съездом КПСС по инициативе Н. С. Хрущёва «Моральному кодексу строителя коммунизма», и что покажется многим современным молодым людям удивительным, мы искренне к этому стремились. Ниже я привожу этот свод правил.
Моральный кодекс строителя коммунизма
1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат;
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
8. Взаимное уважение в семье забота о воспитании детей;
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
За исключением 11 и 12 пунктов всё это можно найти в библейских заветах, всё это соответствовало выработанным человечеством нормам общественной морали. Поэтому для нормального человека эти правила, кроме положительной оценки, никакой другой реакции вызвать не могли.
Сейчас с позиции приобретённого опыта, когда я прошёл путь от рабочего до руководителя разных уровней, я, наверное, повёл бы себя по-другому. Наверное, был бы проще и терпимее относился к происходящему, не создавая себе и окружающим «лишних» проблем.
Молодости не свойственны смирения и компромиссы, и я не был исключением. Поэтому работа в условиях необходимости сосуществование со средой, которая не вызывала у меня доверия, обязанность контактировать и подчиняться руководителям, отягощённым низменными пороками, при отсутствии альтернативы быть с ними связанным круговой порукой, были для меня несовместимы. Я стал искать другую работу, считая, что мне просто не повезло, что среда, в которой я оказался явление случайное, что в другом месте всё будет по-другому.
Практика дальнейшей моей жизнедеятельности последовательно освобождала меня от многих иллюзий, которыми мы были наполнены. И всё же многое из того советского периода жизни моего поколения заслуживает положительной оценки и, к сожалению, не воспроизводится сегодня, хотя значительной частью населения страны не может быть не востребовано.
Например, понятие безработица, воспринималось нами, как что-то свойственное капиталистическому образу жизни, где господствует эксплуатация рабочих капиталистами, которые могут делать с неугодными им работниками всё что угодно, вплоть до лишения их работы, а, следовательно, и средств к существованию. Сегодня я знаю, что и тогда была скрытая безработица, но она была несоизмерима с той ситуацией на рынке труда, которая существует сегодня в России. И тогда неугодные работники были не застрахованы от произвола администрации, но администрация десять раз отмеривала, прежде чем принять решение по каждому конкретному случаю, так как действовала процедура защиты прав человека в сфере трудовой деятельности и это была политика партии, а, следовательно, и власти. Притесняемый работник мог обратиться с жалобой в профсоюзную организацию, в партийные комитеты разных уровней, в органы советской власти и мог рассчитывать на помощь. Сегодня работники практически беззащитны перед административным произволом, особенно в частном секторе. Я не подвергаю сравнению притеснения по политическим мотивам, сегодня ситуация с политическими правами человека обстоит на мой взгляд несколько демократичнее, но это не означает, что все проблемы сняты.
Другим положительным примером советского периода в жизни нашей страны было отношение власти и общества к молодёжи и пожилым людям. Песня со словами – «Молодым везде у нас дорога, Старикам везде у нас почёт», которую с задором и искренне распевало моё поколение, не была идеологической прокладкой или лозунгом. Это было практикой жизни, хотя за реализацией этой практики в жизнь неустанно следили партийные органы. Осуществление молодёжной политики было важнейшей государственной задачей. Я неоднократно заострял внимание читателя на это ранее, и подчёркиваю это вновь, потому как отсутствие молодёжной политики сегодня уже обернулось для страны и общества невосполнимой потерей, но осознание этого, судя складывающейся сегодня ситуации, к сожалению ещё не произошло и это очень тревожный симптом.
Воспитание молодого поколения было важнейшей государственной задачей. Это было одним из приоритетных направлений идеологической работы КПСС2 и её верного помощника – ВЛКСМ.3 Трудно не согласиться с привлекательностью такой социально направленной политики, и в том, что она не могла не иметь адекватную ответную реакцию со стороны молодых людей и основной массы населения в целом. Дети с раннего возраста ощущали заботу о себе государства и общественности и отвечали на эту заботу преданностью и верностью. И как бы ни пытались, сегодня принизить значение проводимой политики в сфере воспитания молодого поколения утверждениями о большевистской идеологической подоплеке этой политики, нынешние политические организации ничего пока лучшего предложить не могут.
История учит, что будущее любого общества зависит от воспроизводимого им поколения. Поэтому забота о здоровье, нравственном развитии, уровне образования, воспитании гражданственности, формировании ответственности у своих поколений должны быть основной задачей каждой семьи, общества, государства. Всё остальное вторично. Сегодня мы пожинаем плоды забвения этого постулата, но об этом мы поговорим в следующей книге.
Не лучше обстоит дело и с положением пожилых людей, которые стали заложниками перестроечного периода. Они действиями власти оказались лишены не только своих сбережений, но и достойного пенсионного обеспечения, которое как я упоминал выше, не только позволяло ранее им вести нормальную жизнь в старости, но ещё и помогать своим детям и внукам. Сегодня, когда я вспоминаю в 90-е годы стариков у помоек, извлекающих отходы пищи и выброшенные старые вещи, или просящих милостыню пожилых интеллигентных людей, или выброшенных обманом из своих квартир пенсионеров, превратившихся в «бомжей», я вспоминаю своих маму и бабушек и других окружавших меня людей их возраста. Я благодарю судьбу, что им несмотря на войны и лишения не пришлось испытывать такого унизительного состояния, которое испытывают сегодня их соотечественники, достигших преклонного возраста. В период развития наших общественно-личностных качеств, нормы, определяющие и регулирующие это развитие, казались нам незыблемыми. Идеология, на которой мы воспитывались и воспитывали наших детей, представлялась нам самой гуманной и справедливой. Будущее, которое мы строили по наказам наших отцов, погибших на войне, под «славным» руководством КПСС, возглавляемой «великими вождями», как нас убеждали, и мы искренне верили этому, должно было быть самым светлым и счастливым. Противоречия, возникающие между нашими представлениями и практикой ещё начинающейся самостоятельной жизни, многими из нас воспринимались, так как нам и объясняли наши идолы от большевиков. Мы их объясняли враждебным проявлением со стороны «врагов народа и их сподвижников», или отдельных нерадивых управленцев, которых необходимо выявлять, обличать, подвергать критике, наказывать и всё встанет на свои места. Я, будучи не удовлетворённым реакцией на свой, как мне казалось, мужественный, обличающий непорядочность отдельных руководителей поступок, с чувством выполненного гражданского долга решил, как я уже упоминал выше, покинуть этот коллектив. Я не усомнился в своей правоте, даже не получив ожидаемой поддержки в своей борьбе за справедливость. Было бы неверным считать, что это мне далось легко. Меня много хорошего связывало с этим предприятием. Это и интересная практическая работа, и доброе отношение ко мне многих людей, включая товарищей по работе в ремонтной бригаде, рационализаторов, понимавших мои мотивы в конфликте с администрацией, приобретённых новых друзей, и товарищей, в том числе и из числа ИТР и руководителей производственных подразделений. Особое место занимает в моей памяти о том времени участие в работе комсомольской организации и художественной самодеятельности. Последним увлечением я болел на протяжении многих лет моей жизни. У предприятия было два клуба, в которых помимо проведения политических и общественных мероприятий, показа кинофильмов, работали различные кружки художественной самодеятельности и прикладного искусства.
Получив хорошую хореографическую подготовку в техникуме, я создал танцевальный коллектив, и возглавил его работу.
Моё выступление в концерте художественной
самодеятельности ЛДК, 1962 год
Кроме этого, обладая приличным репертуаром произведений, читаемых мною в прошлом со сцены я продолжил своё художественное творчество и в этой сфере. Заметив, что я обладаю приличной дикцией и голосовыми данными, меня использовали и в качестве конферансье, или как теперь принято говорить – ведущего программы. Мне на всю жизнь запомнилась эти незабываемые праздничные ощущения от зрительской оценки твоего творческого труда, концертные поездки и выступления в разных творческих коллективах и участие в смотрах художественной самодеятельности.
Вот и сейчас, работая над этой книгой, я, перебирая свой архив, вспоминаю то время, смотрю на награды тех лет, и у меня невольно перед глазами встают как живые, картины минувшего. Эти воспоминания навевают грусть о невозвратности былого.
2
Коммунистическая партия Советского Союза
3
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи