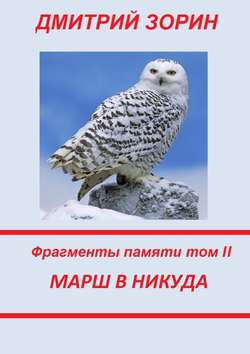Читать книгу Марш в никуда. Фрагменты памяти. Том II - Дмитрий Зорин - Страница 7
Часть первая:
Пора зрелости
(1961—1965 гг.)
Глава четвёртая:
Новые испытания
ОглавлениеНу, а в описываемый мною период жизни от «тлетворного» влияния Запада, схожего с тем, что имеет место быть сегодня, нас надёжно укрывал «железный занавес». Работы на рынке труда предлагалось много, было из чего и что выбирать. Любое предложение гарантировало оплату труда, обеспечивающую прожиточный уровень молодой семьи, а не одного человека, как это принято подсчитывать сегодня. Это предполагало нормальное питание семьи из двух-трёх человек при одном кормильце, возможность скромно одеваться, иметь иногда возможность посещать зрелищные учреждения, а при двух работающих ездить в отпуск отдыхать, немного помогать родителям и самим обустраивать свой быт и делать не дорогие подарки близким. Поэтому мы были уверены в стабильности своего материального положения. Мы так же не сомневались в социальной защищённости своего потомства, гарантируемого конституционными нормами и действующими институтами власти, обеспечивающей бесплатные медицинские услуги, бесплатные образование и содержание детей в дошкольных учреждениях.
Ознакомившись с предложениями на рынке труда, я выбрал для себя работу в новой сфере деятельности, и устроился на должность инженера отдела оборудования Стройснаба Главкрасноярскстроя. Это было самое крупное в крае и одно из крупнейших строительных объединений в СССР, объединяющее не только крупнейшие строительные тресты и управления, но и предприятия стройиндустрии, строймеханизации, и крупнейшие базы комплектации и материально-технического обеспечения стройиндустрии. Именно Главкрасноярскстрой был призван обеспечить реализацию задач выдвинутых партией и правительством по вводу в строй гигантских проектов. К ним относилось строительство Красноярской ГЭС, в то время самой крупной гидроэлектростанции в мире, Ачинского глинозёмного комбината, Красноярского алюминиевого завода, возведение Байкало-Амурской магистрали (БАМ), крупнейших заводов-гигантов, объектов жилищного строительства, и ряда других объектов социального и культурного назначения. Многие из перечисленных объектов были объявлены «Всесоюзными ударными комсомольскими стройками». В нас, я имею в виду своё поколение, жила романтика подвигов наших предков, первых комсомольцев – строителей Магнитки, Днепрогэса, Волго-Донского канала, Комсомольска на Амуре, мы тогда не знали, что эти объекты возводила и другая категория нашего общества. Мы, и я в том числе, тоже хотели совершить что-то значительное, оставить след своего поколения в истории своей страны. Это было одним из определяющих мотивов для меня выбора места работы. Как я уже отмечал выше, Главкрасноярскстрой курировал важнейшие стройки Восточной Сибири. Для меня это была новая область деятельности во всех отношениях. Во-первых, я не был знаком со спецификой строительной индустрии, а это целая отрасль со всем своим многообразием, во-вторых, мне ранее не приходилось сталкиваться с материально-техническим снабжением даже в рамках маленького подразделения, а тут огромное многоотраслевое объединение, по нынешним понятиям своего рода – холдинг. Всё это было для меня тайной за семью печатями и конечно на душе было тревожно. В то же время именно новизна и желание приобрести новый опыт превалировали над страхами в принятии решения.
Структурно аппарат главка состоял из специализированных управлений, которые в свою очередь имели свои структурные подразделения, где первичным элементом был отдел. Вот в отдел оборудования конторы «Стройснаб», Управления материально-технического снабжения Главкрасноярскстроя я и был принят на должность инженера. Нас в отделе было семь человек, каждый вёл определённую группу оборудования. Так, как я имел образование техника-механика деревообрабатывающего оборудования и имел практический опыт работы механика, меня «посадили» на группу деревообрабатывающего и металлорежущего оборудования, которую вследствие большой номенклатуры вели два инженера. Мне повезло с напарником. Владимир Иванович, так звали моего напарника, к сожалению фамилии, не помню, был мужчиной предпенсионного возраста, имеющим огромный опыт в этой сфере деятельности. Будучи внимательным и очень добрым человеком с открытой душой, он доброжелательно встретил молодого ещё, ничего не сведущего в этом сложном деле напарника. А какой из меня ещё был напарник, больше обуза. На начальном этапе ему пришлось выполнять функции моего наставника, и пока я учился, ему приходилось работать за двоих. Я, конечно, старался поскорее освоить новую работу, но это оказалась далеко не так просто. Освоение технологии планирования и распределения основных производственных и материальных фондов в системе Госснаба оказалась для меня камнем преткновения. Конечно, нашими основными клиентами были работники отделов и управлений материально-технического снабжения предприятий и организаций, входящих в систему главка или их руководители, но нередко к нам заглядывали и начальники участков, управлений, трестов. От нашей работы не в малой степени зависел успех в работе этих организаций и благополучие их коллективов.
Обычно все они старались с работниками, к которым они приходили вести себя доверительно, не портить отношений. Нередко преподносились на первый взгляд невинные презенты, например цветы или духи для женщин, бутылочка коньяка для мужчин. Иногда передавались какие-то свёртки открыто. Иногда отдельные работники выходили с клиентом из отдела и возвращались со свёртками. Я тогда не придавал этому особого внимания, так как считал это проявлением искренней благодарности за работу своих товарищей. Это потом я стал понимать, что это «благодарность», за конкретную услугу, нередко в ущерб или за счёт другой организации. И все равно у меня осталась добрая память о том коротком времени, общения с этими людьми. Ко мне все относились хорошо, делились своим опытом, оказывали практическую помощь, когда я что-то не понимал или не знал. Я не так быстро, как хотелось, но всё же вникал в новое дело, и мне стали доверять некоторую самостоятельную работу. Сначала это было систематизация заявок по группам в журналах, затем разноска выделенных главку фондов и заполнение картотеки в соответствии с заявками с заполнением специальной документации и разноской в рабочие журналы. Меня, конечно, проверяли и поправляли там, где я ошибался, но постепенно я входил в курс дела.
В силу общительности характера я быстро познакомился с другими работниками конторы, а затем и управления и обрёл новых друзей. Встав на комсомольскиё учёт, я сначала выполнял отдельные поручения, а потом по рекомендации комсомольской организации управления был избран членом комитета комсомола главка. Конечно новое для меня дело, в силу особой специфики, с которой мне не приходилось ранее сталкиваться, вызывало у меня тревогу за свои способности справиться с этим поручением. Меня окружали опытные в своём деле профессионалы, но их отношение ко мне как к новичку было благожелательным и равноправным, исключающим появление комплекса неполноценности.
Шел 1963 год, мы ждали прибавления в семье, к осени у нас должен был появиться наш совместный ребёнок, вся жизнь была наполнена этим ожиданием и заботами, связанными с этим событием. Этим жили не только мы с женой, но и наши родители и родные, особенно мои, потому что это предвещало им переход в новое качество. Они в отличие от моей тёщи и других родственников моей жены впервые становились бабушками, дядями, тётями и так далее. У тёщи жили внучка, дочь брата моей же жены, живущего с матерью и внук Юра, наш сын, а у нас это всё было вновь.
Наш сын Юра на детской площадке в парке, в период жизни у бабушки в Украине, 1963 год
Приобретались необходимые для такого случая вещи и предметы, по всяким приметам и признакам строились предположения о том, кто родится – мальчик или девочка. Почему-то большее подтверждение получало предположение о мальчике. Мы с женой желали тоже мальчика, и наши ожидания оправдались, 13 сентября 1963 года на свет появился один из продолжателей родословной Зориных, наш сын Константин.
У нас родился второй сын, которого мы назвали в память
моего отца Константином, 1963 год
До его появления у нас второго сына моя супруга была несколько раз беременна. Один раз родившийся ребёнок и тоже мальчик умер, прожив всего несколько часов из-за гемофилии, причиной наличия которой я считаю себя. Было ещё неудачи, но, слава Богу – он и жена подарили нам ещё одного сына. Всё прошло благополучно и мама, и ребёнок чувствовали себя удовлетворительно. Я, конечно, ощущал себя счастливейшим из отцов, но к осознанному отцовству, требующему проявления не только отцовских чувств, но и несения родительских не связанных с материальной стороной обязанностей, я ещё не был готов. Это я уже осознал через несколько лет, когда может быть запоздало, но обрёл необходимый жизненный опыт. Мы ведь дети войны хоть и взрослели быстрее более поздних сверстников, но в чём-то и отставали от них, детей развивающихся в нормальных условиях.
Один из моих современников, который помогал мне в корректировании и редактирования рукописи этой книги, считал что подобные, как он выразился «откровения» неинтересны читателю и могут вызвать неприятные чувства у моей бывшей жены. Может он и прав. И всё же я в своей работе над жизнеописанием своего поколения на своём примере стремлюсь обратить внимание молодёжи, вступающей в самостоятельную жизнь, на возможность проявления в ней различных неожиданных, в том числе, и неприятных обстоятельств. С тем чтобы они, столкнувшись с ними, могли быть к ним готовы и, веря в счастливое их завершение, готовы были преодолевать эти трудности.
Возможно, на мою работу оказывают влияние моя многолетняя педагогическая и воспитательная практика и жизненный опыт. Возможно, этим вызваны мои, как покажется отдельным читателям «ненужные излишества» но я, будучи привержен принципу: что если опыт жизни моего поколения, хоть кому-то окажется, полезным, стараюсь рассказать о нём. Вся наша семья, включая наших родителей, искренне радовались появлению на свет нового члена семьи, но самым счастливым человеком была моя жена. Хотя она скрывала свои мысли, но всем окружающим было понятно её неуёмное желание как можно быстрее родить ребёнка, даже когда роды угрожали её здоровью. Она стремилась укрепить семью, и все к этому относились с пониманием и сочувствием, о чём я уже упоминал выше.
Моя жена хотела назвать сына Димой, в память об умершем до этого после родов ребёнке, которого тоже тогда назвали Димой в честь моего деда, революционера-большевика, о котором я писал в первой книге.
Это, как про себя считала моя жена, должно было укрепить нашу семейную базу. То, что она именно к этому страстно стремится, не для кого из окружающих не было секретом. Это было её право, и все относились к этому с уважением и пониманием. Так как мы ещё раньше условились, что если будет мальчик, то право на имя получаю я, а если девочка, то имя ей будет давать семейный совет, то ни у кого не вызвало удивления имя Костя, которым мы назвали ребёнка. Память о погибшем на фронте отце была для меня и моего брата священна. Я думаю, что это свойственно всем нашим сверстникам, потерявшим в войне своих родных и близких. Именно в наших детях как бы возрождались погибшие в Отечественной войне наши родные, кому не суждено было стать для них дедами, бабушками и другими положенными в этих случаях родственниками. Как многие утверждали, мальчик уродился в Зориных, и мне очень хотелось в это верить. Это был черноглазый с чёрными волосами смуглый бутуз с ямочками на щеках и двумя точками на складке подбородка свойственными его отцу и деду, которому не суждено было его узнать.
Конечно, появление нашего совместного ребёнка наполнило нашу жизнь новым содержанием, новыми заботами, новыми планами. Я вообще не имел опыта обращения с грудным ребёнком, а у моей жены он был очень ограничен. Дело в том, что выхаживанием её первенца занималась бабушка, её мама, к которой он был привезён с трехмесячного возраста и через два месяца оставленном у неё дочерью, так как молодой маме надо было заканчивать учёбу в техникуме. Студенческие общежития не были приспособлены для проживания одиноких мам с детьми, тем более с грудными детьми. Мы тогда ещё не были с нею близко знакомыми, и о нашем союзе даже не мыслилось, хотя это было не за горами, где-то около года, но в, то время каждый жил своей жизнью.
На тот период моя мама работала, и в полной мере помогать нам в уходе за ребёнком не могла. Поэтому для решения этой проблемы жене надо было или идти в отпуск без содержания на работе и в академический отпуск в институте, или брать на первых порах няню, а потом отдавать ребёнка в заводские ясли. Мы склонились ко второму варианту и наняли няню, которая поселилась у нас, и нас уже стало четверо.
Гордая бабушка, наша с братом мама со своими внуками Юрой и Костей. 1964 г.
Юра, старший сын, оставался пока у бабушки на Украине, и взять мы его смогли только на следующий год, когда он достиг детсадовского возраста. Через год, получив место в яслях, которые располагались в двухэтажном деревянном доме, напротив нашего барака, мы расстастались с няней. Этому способствовал один случай. Как-то забежав, домой среди рабочего дня, когда меня обычно не ждали, я стал свидетелем действия выражавшегося в вылизывании няней лица нашего ребёнка языком. Язык её мне показался невообразимо большим, а личико сына маленьким. Я в бешенстве выхватил ребёнка из её рук и потребовал объяснения её действий. Она стала плакать и жаловаться, что ребёнок очень беспокойный, что мы приучили его к рукам, и у неё нет сил, целый день качать его на руках и что это народное средство, успокаивающе действующее на детей грудного возраста. Меня это несколько смутило, но не сняло настороженности, и я стал пристальней приглядываться за действиями няни. Я привёл этот пример, чтобы показать читателю бытующие в наше время приёмы ухода за новорождёнными детьми. Няня была преклонного возраста малограмотная деревенская женщина, старость которой была социально мало обеспеченной, что было для одиноких людей, проживающих в сельской местности, уже не способных вести своё хозяйство для того времени явлением не редким. В общем-то, особых претензий у нас к ней не могло быть. Она как могла, старалась, но видимо отсутствие собственных детей и преклонный возраст, а уход за детьми это тяжёлый труд, вынуждали её применять некоторые хитрости, которые не могли устроить нас. Например, я стал замечать, что она, чтобы успокоить ребёнка начинала сильно качать коляску и буквально укачивала ребёнка. Глаза у него закатывались, и он не то что засыпал, а создавалось впечатление, впадал в состояние беспамятства. Причём это состояние было кратковременным, и он вскоре опять начинал вести себя беспокойно, а она опять начинала его «убалтывать». Всё это ускорило наше расставание. Считаю необходимым отметить, что и сегодня можно наблюдать подобную описанной мною выше картину, когда молодые мамы трясут, а не укачивают своих новорождённых детей. Хочется им напомнить, что это чревато серьёзными неприятными последствиями для здоровья ребёнка. Поэтому я и счёл необходимым привести пример из своей жизни.
Вскоре вся наша семья восстановилась, бабушка привезла нам Юру и некоторое время пожила у нас, чтобы он привык к родителям, которых он фактически обретал заново. Нам тоже необходимо было привыкнуть к ребёнку, к приобретённым им привычкам и образу жизни, отличном от нашего. Необходимо было притираться, приспосабливаться к нему, заинтересовать и привлечь его к себе, сделаться для него необходимыми. Я чувствовал особую ответственность, и старался из всех сил, понравиться ребёнку, и не дай бог допустить что-нибудь не соответствующее принятым на себя родительским обязанностям. Может быть, надо было быть проще, и не выделять в своём отношении детей, но тогда я об этом не задумывался, осознание этого пришло позже.
Весна следующего года оказалась бурной. Воды Енисея вышли из берегов, и наши бараки затопило. Благодаря проводимой тогда жилищной реформе, инициатором которой был Н. С. Хрущёв, мы получили благоустроенную квартиру. Это была трёхкомнатная квартира, общей площадью 44,5 квадратных метров. Об этом можно было только мечтать, и мы ощущали себя счастливейшими из людей. Детям была выделена отдельная комната. Мы с женой тоже обрели свою спальню, ну и появилось понятие «зала».
Тем временем я старался найти себя в непривычном мне деле. Всё усугублялось тем, что я не ощущал интереса к этой деятельности, и поэтому все мои усилия походили на «тыканье слепого котёнка», лишённого к тому же и чутья. Это объясняло то, что, несмотря на дружелюбные отношения с коллегами, на сложившуюся в коллективе атмосферу взаимовыручки, где неудачи и промахи одного воспринимались, как неудача всех, что заставляло более ответственно, относиться к работе, чтобы не подводить товарищей, я чувствовал себя, ущербно понимая свою ограниченность в практике этой деятельности. И всё всё-таки постоянное общение с руководителями или представителями руководства строящихся, или действующих промышленных объектов края, ощущение своего соучастия в разрешении возникающих проблем, атмосфера необходимости действия, принятия нужного решения, конечно, обогащали мой жизненный опыт, расширяли мой кругозор и диапазон мироощущения. Одна ко мне пришлось столкнуться и с негативной стороной чиновничьей морали.
Фая, жена брата с племянником Костей.
Скоро у них появится свой ребёнок
Готовилась стать матерью жена моего брата Александра, Фаина и вся наша семья так же с нетерпением ждала нового пополнения. Ну а пока всё внимание доставалось нашим детям. Об этом свидетельствуют приводимые снимки.
Я не раз был свидетелем, как часть фондов предназначенных по утвержденному плану распределения для одних организаций не всегда оправдано переадресовывались другим.
Принципы «мохнатой лапы», не подмажешь, не получишь», различного рода «благодарностей и поощрений» были и в то время не чужды отдельным работникам и руководителям подразделений Главка. Наблюдая это, я ощущал определённый дискомфорт. Меня больше всего поражала открытость, граничащая с закономерностью этого явления в деятельности организации и отдельных её работников. Мои попытки найти этому оправдание с позиции «морального кодекса строителя коммунизма», вызывали у коллег в лучшем случае недоумение или снисходи тельную улыбку, обычно адресуемую несмышлёнышу, который не созрел до понимания элементарных понятий в человеческих отношениях. Чем дальше я вникал в эту сферу с позиции выше обозначенных принципов, тем сложнее становились мои взаимоотношения с коллегами. Меня это угнетало и вызывало чувство горечи и сомнений. Я с искренним дружелюбием относился к товарищам по работе и осознание того, что я могу стать инородным телом в их среде, и быть отвергнутым ими мучило меня.
Мне не очень нравилось походить на некоего литературного героя в образе благородного рыцаря, в одиночку, сражавшегося с ветряными мельницами. Мне бы так же не хотелось, чтобы у читателя сложилось обо мне мнение, как о неком моралисте, оказавшемся в единственном числе в аморальной среде и ведущим с ней беспощадную борьбу, в надежде всё исправить. Конечно, рядом со мной и в обществе было множество людей, которые, столкнувшись с наличием противоречий между реалиями жизни и. провозглашаемыми нравственными устоями, воспринимали происходящее и относились к нему примерно, так же как и я.
Мы с женой и наши дети в окружении довольных бабушек. Крайняя – слева сидит тёща моего брата, или мама его жены Фаи, приехавшая к ним в гости
Мы не были готовы тогда к глубокому анализу и осмыслению этих явлений, так как считали их «родимыми пятнами» враждебного нам «лагеря капитализма» поэтому наши возможности изменить что-то могли проявляться только в форме критики. Любая другая форма, вызвала бы жёсткую немедленную реакцию со стороны большевистской власти.
Перед построением на демонстрацию в честь 46-й годовщины Октябрьской Революции. Я перед портретом, рядом со мною справа Начальник Управления Рудь П. И., далее начальник
конторы «Стройснаб», слева с ребёнком мой коллега
по отделу, впереди с плакатом комсомольский вожак. 1963г.
Это подтверждается многими имеющими тогда место и сегодня известными фактами протестов отдельных представителей общества, являющихся сторонниками его демократического преобразования, людей с высокой степенью гражданского самосознания и ответственности, которых власть называла «диссидентами» и подвергала жесточайшим репрессиям.
Для сравнения с сегодняшними возможностями большинства россиян хочу привести пример, который можно смело отнести к большинству населения представляющего моё поколение.
Я в кругу отдыхающих санатория «Дарасун» в Читинской
области во время прогулки в «Долину любви». 8 марта 1964 года
У меня, как и у многих моих сверстников, перенесших тяжести жизни военного и первые годы послевоенного периода иногда возникали проблемы со здоровьем. Я страдал язвенной болезнью желудка и находился на диспансерном учёте у участкового врача. Мне дважды в год, весной и осенью проводили обследование, при необходимости проводили стационарное лечение в больнице и нередко направляли на санаторно-курортное лечение в специализированные санатории страны. Иногда, если это совпадало с отпуском жены, мы ездили, вместе, при этом она размещалась на жительство в частном секторе, и мы брали ей курсовку на лечение или оздоравливание, а когда отпуск не совпадал я ездил один. Детей мы обычно оставляли у бабушки, мамы супруги в Украине, там им было больше раздолья.
Когда я ездил один, это вносило в наши с супругой отношение некоторый дискомфорт, который мы внешне старались не проявлять, но как мне казалось, внутренне он присутствовал. Жена при этом в форме шутки замечала фразу из одного расхожего тогда анекдота: – «ничего на том свете посмотрим, кто будет вентилятором». Мы почти ежегодно ездили в отпуск лечиться или отдыхать. А могут ли себе сегодня позволить граждане России с их доходами, я уж не говорю о пенсионерах.
Формы деятельности в сфере снабжения и сбыта имеют свои особенности, складывающиеся на протяжении очень длительного периода и передающиеся из поколения в поколение независимо от политических формаций. На основании этих особенностей выстроились определённые отношения между участниками этой деятельности, так называемые «негласные правила игры». Эти правила, несмотря на нередкую нестыковку с утверждаемыми моральными нормами, а иногда и с законодательством, устраивали руководство организаций, предприятий, и отраслей, так как обеспечивали не только их функционирование, но и функционирование самой действующей государственной политической системы. Надо признать, эту деятельность отличал свой шарм, требующий определённого уровня профессионализма, овладеть которым, дано не каждому. С этим надо родиться, это надо иметь в крови. Мне однажды пришлось убедиться в этом.
Руководство управления, заметив мою коммуникабельность и способность контактировать на любом уровне системы главка, решило испытать меня на самом тяжёлом направлении снабженческой деятельности – выбивании выделенных плановых фондов от поставщиков. Меня пригласил к себе начальник Управления снабжения и сбыта Главкрасноярскстроя Рабинер, талантливый работник в этой сфере деятельности государственного уровня. Даже потом, много лет спустя находясь в преклонном возрасте и будучи очень больным, потерявшим зрение человеком, он не отказывал в консультации и помощи организациям различного даже самого высокого уровня и отдельным лицам. Мне льстило оказанное доверие со стороны руководства, и я горел желанием оправдать его. Передо мной была поставлена задача произвести отгрузку труб с Первоуральского и Челябинского трубных заводов. Собрав необходимые документы и выслушав напутствия опытных товарищей, я отправился в командировку с уверенностью, что решу поставленную задачу. Прибыв в Первоуральск, я после размещения в гостинице, отправился на один из гигантов металлургической промышленности, производивший необходимые нам трубы. Размеры предприятия были впечатляющи. Часть служб заводоуправления, чья деятельность была связана с внешней клиентурой, в том числе и отдел, сбыта, куда я направлялся, была размещена в здании находящемся за территорией завода. Около отдела и в нём толпилось много командировочного народа, прибывшего на завод с теми же, что и у меня целями. Наскоком мне прорваться в отдел не удалось, поэтому я вынужден был занять очередь, порядок движения которой мне сразу понять было не дано. Кого-то приглашали работники отдела, к кому-то они сами выходили, на это уходило не мене половины рабочего времени, поэтому с учётом других «форс-мажорных» обстоятельств к таким «честным» вроде меня очередникам уделялось внимание 20, максимум 30 процентов рабочего времени. Невольно на ум приходило сравнение с незабвенным Некрасовским произведением «У парадного подъезда». Когда, наконец, удалось попасть в отдел к нужному чиновнику, мне вежливо сообщили, что фонды нам выделены, но таких как мы много и когда дойдёт очередь до отгрузки продукции в наш адрес неизвестно. Мои попытки объяснить, что невыполнение сроков отгрузки приведёт к срыву графиков строительства важнейших ударных строек страны, не произвели ни какого эффекта.
Со следующего дня начались мои «хождения по мукам». Начал я с начальника отдела, далее мой путь лежал к заместителю директора по снабжению и сбыту – результат нулевой. Я решил поднять на борьбу с бюрократией комсомол. Кто же ещё может помочь Всесоюзным ударным комсомольским стройкам. С их помощью я оказался в парткоме завода, откуда состоялся разговор с директором, но всё вернулось на «места свои». Все соглашались, все выражали готовность помогать, но никто, ничего не мог сделать. Я не собирался смириться с неудачей и на следующий день отправился в горком комсомола, а затем и в горком партии. Результат – ноль. Вечером, как уговорились, докладываю по телефону обо всех своих действиях Рабинеру, и получаю обескураживающее меня указание, прекратить всякие действия в Первоуральске, и направляться в Челябинск.
На Челябинском трубном заводе всё повторилось, как говорится одно в одно. Я начал анализировать свои действия в надежде найти причину своих неудач. С позиции советского человека, приверженного соизмерять свои поступки с принципами, заложенными в провозглашённом тогда партией и властью «Кодексе строителя коммунизма» я, на мой взгляд, действовал безупречно. На практике эти принципы не действовали. Это было очередное противоречие, определяющее оторванность красивой, но не жизнеспособной идеологии от практики жизни. Подспудно меня посещала догадка о всесилии и бессмертии принципа ярко выраженного в поговорке «не подмажешь не поедешь», но в, то время не только я, но и огромное количество представителей моего поколения к буквальному восприятию этого принципа были не готовы. Выслушав мой очередной отчёт о своих действиях, моё начальство отозвало меня назад в Красноярск. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что посланный вместо меня другой работник, в моём представлении человек не приверженный высоким моральным принципам, через пару дней после прибытия в Первоуральск отправил первую партию труб, а через несколько дней началась отгрузка продукции и из Челябинска. Будучи человеком самокритичным, я вынужден был признать свою профнепригодность к работе снабженца, хотя это меня конечно угнетало.
Я до сих пор не умею, как говорят в народе «дать на лапу». Однажды по прошествии многих лет я попытался это сделать, но не смог выполнить это непринуждённо и всё испортил. Больше никогда не пробовал, не дано мне было это.